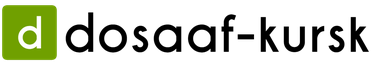Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Шрифт:
100% +
Тарас Григорович Шевченко
ПРИЧИННА
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
І блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі,
То виринав, то потопав.
Ще треті півні не співали,
Ніхто нігде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у раз скрипів.
В таку добу під горою,
Біля того гаю,
Що чорніє над водою,
Щось біле блукає.
Може, вийшла русалонька
Матері шукати,
А може, жде козаченька,
Щоб залоскотати.
Не русалонька блукає -
То дівчина ходить,
Й сама не зна (бо причинна),
Що такеє робить.
Так ворожка поробила,
Щоб меньше скучала,
Щоб, бач, ходя опівночі,
Спала й виглядала
Козаченька молодого,
Що торік покинув.
Обіщався вернутися,
Та, мабуть, і згинув!
Не китайкою покрились
Козацькії очі,
Не вимили біле личко
Слізоньки дівочі:
Орел вийняв карі очі
На чужому полі,
Біле тіло вовки з"їли, -
Така його доля.
Дарма щоніч дівчинонька
Його виглядає.
Не вернеться чорнобривий
Та й не привітає,
Не розплете довгу косу,
Хустку не зав"яже,
Не на ліжко – в домовину
Сиротою ляже!
Така її доля… О боже мій милий!
За що ж ти караєш її, молоду?
За те, що так щиро вона полюбила
Козацькії очі?.. Прости сироту!
Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки,
Одна, як та пташка в далекім краю.
Пошли ж ти їй долю, – вона молоденька,
Бо люде чужії її засміють.
Чи винна голубка, що голуба любить?
Чи винен той голуб, що сокіл убив?
Сумує, воркує, білим світом нудить,
Літає, шукає, дума – заблудив.
Щаслива голубка: високо літає,
Полине до бога – милого питать.
Кого ж сиротина, кого запитає,
І хто їй розкаже, і хто теє знає,
Де милий ночує: чи в темному гаю,
Чи в бистрім Дунаю коня напова,
Чи, може, з другою, другую кохає,
Її, чорнобриву, уже забува?
Якби-то далися орлинії крила,
За синім би морем милого знайшла;
Живого б любила, другу б задушила,
А до неживого у яму б лягла.
Не так серце любить, щоб з ким поділиться,
Не так воно хоче, як бог нам дає:
Воно жить не хоче, не хоче журиться.
«Журись», – каже думка, жалю завдає.
О боже мій милий! така твоя воля,
Таке її щастя, така її доля!
Вона все ходить, з уст ні пари.
Широкий Дніпр не гомонить:
Розбивши, вітер, чорні хмари,
Ліг біля моря одпочить,
А з неба місяць так і сяє;
І над водою, і над гаєм,
Кругом, як в усі, все мовчить.
Аж гульк – з Дніпра повиринали
Малії діти, сміючись.
«Ходімо гріться! – закричали. -
Зійшло вже сонце!» (Голі скрізь;
З осоки коси, бо дівчата). …
«Чи всі ви тута? – кличе мати. -
Ходім шукати вечерять.
Пограємось, погуляймо
Та пісеньку заспіваймо:
Ух! Ух!
Солом"яний дух, дух!
Мене мати породила,
Нехрещену положила.
Місяченьку!
Наш голубоньку!
Ходи до нас вечеряти:
У нас козак в очереті, в осоці,
Срібний перстень на руці;
Молоденький, чорнобровий;
Знайшли вчора у діброві.
Світи довше в чистім полі,
Щоб нагулятись доволі.
Поки відьми ще літають,
Посвіти нам… Он щось ходить!
Он під дубом щось там робить.
Ух! Ух!
Солом"яний дух, дух!
Мене мати породила,
Нехрещену положила».
Зареготались нехрещені…
Гай обізвався; галас, зик,
Орда мов ріже. Мов скажені,
Летять до дуба… нічичирк…
Схаменулись нехрещені,
Дивляться – мелькає,
Щось лізе вверх по стовбуру
До самого краю.
Ото ж тая дівчинонька,
Що сонна блудила:
Отаку-то їй причину
Ворожка зробила!
На самий верх на гіллячці
Стала… в серце коле!
Подивись на всі боки
Та й лізе додолу.
Кругом дуба русалоньки
Мовчки дожидали;
Взяли її, сердешную,
Та й залоскотали.
Довго, довго дивовались
На її уроду…
Треті півні: кукуріку! -
Шелеснули в воду.
Защебетав жайворонок,
Угору летючи;
Закувала зозуленька,
На дубу сидячи;
Защебетав соловейко -
Пішла луна гаєм;
Червоніє за горою;
Плугатар співає.
Чорніє гай над водою,
Де ляхи ходили;
Засиніли понад Дніпром
Високі могили;
Пішов шелест по діброві;
Шепчуть густі лози.
А дівчина спить під дубом
При битій дорозі.
Знать, добре спить, що не чує,
Як кує зозуля,
Що не лічить, чи довго жить…
Знать, добре заснула.
А тим часом із діброви
Козак виїжджає;
Під ним коник вороненький
Насилу ступає.
«Ізнемігся, товаришу!
Сьогодні спочинем:
Близько хата, де дівчина
Ворота одчинить.
А може, вже одчинила
Не мені, другому…
Швидче, коню, швидче, коню,
Поспішай додому!»
Утомився вороненький,
Іде, спотикнеться, -
Коло серця козацького
Як гадина в"ється.
«Ось і дуб той кучерявий…
Вона! Боже милий!
Бач, заснула виглядавши,
Моя сизокрила!»
Кинув коня та до неї:
«Боже ти мій, боже!»
Кличе її та цілує…
Ні, вже не поможе!
«За що ж вони розлучили
Мене із тобою?»
Зареготавсь, розігнався -
Та в дуб головою!
Ідуть дівчата в поле жати
Та, знай, співають ідучи:
Як проводжала сина мати,
Як бивсь татарин уночі.
Ідуть – під дубом зеленеьким
Кінь замордований стоїть,
А біля його молоденький
Козак та дівчина лежить.
Цікаві (нігде правди діти)
Підкралися, щоб ізлякать;
Коли подивляться, що вбитий, -
З переполоху ну втікать!
Збиралися подруженьки,
Слізоньки втирають;
Збиралися товариші
Та ями копають;
Пішли попи з корогвами,
Задзвонили дзвони.
Поховали громадою
Як слід, по закону.
Насипали край дороги
Дві могили в житі.
Нема кому запитати,
За що їх убито?
Посадили над козаком
Явір та ялину,
А в головах у дівчини
Червону калину.
Прилітає зозуленька
Над ними кувати;
Прилітає соловейко
Щоніч щебетати;
Виспівує та щебече,
Поки місяць зійде,
Поки тії русалоньки
З Дніпра грітись вийдуть.
Тече вода в синє море,
Та не витікає;
Шука козак свою долю,
А долі немає.
Пішов козак світ за очі;
Грає синє море,
Грає серце козацькеє,
А думка говорить:
«Куди ти йдеш, не спитавшись?
На кого покинув
Батька, неньку старенькую,
Молоду дівчину?
На чужині не ті люде,
Тяжко з ними жити!
Ні з ким буде поплакати,
Ні поговорити».
Сидить козак на тім боці,
Грає синє море.
Думав, доля зустрінеться,
Спіткалося горе.
А журавлі летять собі
Додому ключами.
Плаче козак – шляхи биті
Заросли тернами.
Вітре буйний, вітре буйний!
Ти з морем говориш,
Збуди його, заграй ти з ним,
Спитай синє море.
Воно знає, де мій милий,
Бо його носило,
Воно скаже, синє море,
Де його поділо.
Коли милого втопило -
Розбий синє море;
Піду шукать миленького,
Втоплю своє горе,
Втоплю свою недоленьку,
Русалкою стану,
Пошукаю в чорних хвилях,
На дно моря кану.
Найду його, пригорнуся,
На серці зомлію.
Тоді, хвиле, неси з милим,
Куди вітер віє!
Коли ж милий на тім боці,
Буйнесенький, знаєш,
Де він ходить, що він робить,
Ти з ним розмовляєш.
Коли плаче – то й я плачу,
Коли ні – співаю;
Коли ж згинув чорнобривий, -
То й я погибаю.
Тогді неси мою душу
Туди, де мій милий;
Червоною калиною
Постав на могилі.
Буде легше в чужім полі
Сироті лежати -
Буде над ним його мила
Квіткою стояти.
І квіткою й калиною
Цвісти над ним буду,
Щоб не пекло чуже сонце,
Не топтали люде.
Я ввечері посумую,
А вранці поплачу.
Зійде сонце – утру сльози,
Ніхто й не побачить.
Вітре буйний, вітре буйний!
Ти з морем говориш,
Збуди його, заграй ти з ним,
Спитай синє море…
Тяжко-важко в світі жити
Сироті без роду:
Нема куди прихилиться,
Хоч з гори та в воду!
Утопився б молоденький,
Щоб не нудить світом;
Утопився б, – тяжко жити,
І нема де дітись.
В того доля ходить полем -
Колоски збирає;
А моя десь, ледащиця,
За морем блукає.
Добре тому багатому:
Його люди знають;
А зо мною зустрінуться -
Мов недобачають.
Багатого губатого
Дівчина шанує;
Надо мною, сиротою,
Сміється, кепкує.
«Чи я ж тобі не вродливий,
Чи не в тебе вдався,
Чи не люблю тебе щиро,
Чи з тебе сміявся?
Люби ж собі, моє серце,
Люби, кого знаєш,
Та не смійся надо мною,
Як коли згадаєш.
А я піду на край світа…
На чужій сторонці
Найду кращу або згину,
Як той лист на сонці».
Пішов козак сумуючи,
Нікого не кинув;
Шукав долі в чужім полі
Та там і загинув.
Умираючи, дивився,
Де сонечко сяє…
Тяжко-важко умирати
У чужому краю!
Нащо мені чорні брови,
Нащо карі очі,
Нащо літа молодії,
Веселі дівочі?
Літа мої молодії
Марно пропадають,
Очі плачуть, чорні брови
Од вітру линяють.
Серце в"яне, нудить світом,
Як пташка без волі.
Нащо ж мені краса моя,
Коли нема долі?
Тяжко мені сиротою
На сім світі жити;
Свої люде – як чужії,
Ні з ким говорити;
Нема кому розпитати,
Чого плачуть очі;
Нема кому розказати,
Чого серце хоче,
Чого серце, як голубка,
День і ніч воркує;
Ніхто його не питає,
Не знає, не чує.
Чужі люди не спитають -
Та й нащо питати?
Нехай плаче сиротина,
Нехай літа тратить!
Плач же, серце, плачте, очі,
Поки не заснули,
Голосніше, жалібніше,
Щоб вітри почули,
Щоб понесли буйнесенькі
За синєє море
Чорнявому зрадливому
На лютеє горе!
НА ВІЧНУ ПАМ"ЯТЬ КОТЛЯРЕВСЬКОМУ
Сонце гріє, вітер віє
З поля на долину,
Над водою гне вербою
Червону калину;
На калині одиноке
Гніздечко гойдає, -
А де ж дівся соловейко?
Не питай, не знає.
Згадай лихо – та й байдуже…
Минулось… пропало…
Згадай добре – серце в"яне:
Чому не осталось?
Отож гляну та згадаю:
Було, як смеркає,
Защебече на калині -
Ніхто не минає.
Чи багатий, кого доля,
Як мати дитину,
Убирає, доглядає, -
Не мине калину.
Чи сирота, що до світа
Встає працювати,
Опиниться, послухає;
Мов батько та мати
Розпитують, розмовляють, -
Серце б"ється, любо…
І світ божий як великдень,
І люди як люди.
Чи дівчина, що милого
Щодень виглядає,
В"яне, сохне сиротою,
Де дітись не знає;
Піде на шлях подивитись,
Поплакати в лози, -
Защебече соловейко -
Сохнуть дрібні сльози.
Послухає, усміхнеться,
Піде темним гаєм…
Ніби з милим розмовляла…
А він, знай, співає,
Та дрібно, та рівно, як бога благає,
Поки вийде злодій на шлях погулять
З ножем у халайві, – піде руна гаєм,
Піде та замовкне – нащо щебетать?
Запеклую душу злодія не спинить,
Тільки стратить голос, добру не навчить.
Нехай же лютує, поки сам загине,
Поки безголов"я ворон прокричить.
Засне долина. На калині
І соловейко задріма.
Повіє вітер по долині -
Пішла дібровою руна,
Руна гуляє, божа мова.
Встануть сердеги працювать,
Корови підуть по діброві,
Дівчата вийдуть воду брать,
І сонце гляне, – рай, та й годі!
Верба сміється, свято скрізь!
Заплаче злодій, лютий злодій.
Було так перш – тепер дивись:
Сонце гріє, вітер віє
З поля на долину,
Над водою гне з вербою
Червону калину;
На калині одиноке
Гніздечко гойдає, -
А де ж дівся соловейко?
Не питай, не знає.
Недавно, недавно у нас в Україні
Старий Котляревський отак щебетав;
Замовк неборака, сиротами кинув
І гори, і море, де перше витав,
Де ватагу пройдисвіста
Водив за собою, -
Все осталось, все сумує,
Як руїни Трої.
Все сумує, – тільки слава
Сонцем засіяла.
Не вмре кобзар, бо навіки
Його привітала.
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!
Та про Україну мені заспівай!
Нехай усміхнеться серце на чужині,
Хоч раз усміхнеться, дивлячись, як ти
Всю славу козацьку за словом єдиним
Переніс в убогу хату сироти.
Прилинь, сизий орле, бо я одинокий
Сирота у світі, в чужому краю.
Дивлюся на море широке, глибоке,
Поплив би на той бік – човна не дають.
Згадаю Енея, згадаю родину,
Згадаю, заплачу, як тая дитина.
А хвилі на той бік ідуть та ревуть.
А може, я темний, нічого не бачу,
Злая доля, може, на тім боці плаче, -
Сироту усюди люде осміють.
Нехай би сміялись, та там море грає,
Там сонце, там місяць ясніше сія,
Там з вітром могила в степу розмовляє,
Там не одинокий був би з нею й я.
Праведная душе! прийми мою мову,
Не мудру, та щиру. Прийми, привітай.
Не кинь сиротою, як кинув діброви,
Прилини до мене, хоч на одно слово,
Та про Україну мені заспівай!
КАТЕРИНА
Василию Андреевичу Жуковскому на память
22 апреля 1838 года
I
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине -
Якби сама, ще б нічого,
А то й стара мати,
Що привела на світ божий,
Мусить погибати.
Серце в"яне співаючи,
Коли знає за що;
Люде серця не побачать,
А скажуть – ледащо!
Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Знущаються вами.
Не слухала Катерина
Ні батька, ні неньки,
Полюбила москалика,
Як знало серденько.
Полюбила молодого,
В садочок ходила,
Поки себе, свою долю
Там занапастила.
Кличе мати вечеряти,
А донька не чує;
Де жартує з москаликом,
Там і заночує.
Не дві ночі карі очі
Любо цілувала,
Поки слава на все село
Недобрая стала.
Нехай собі тії люде
Що хотять говорять:
Вона любить, то й не чує,
Що вкралося горе.
Прийшли вісти недобрії -
В поход затрубили.
Пішов москаль в Туреччину;
Катрусю накрили.
Незчулася, та й байдуже,
Що коса покрита:
За милого, як співати,
Любо й потужити.
Обіцявся чорнобривий,
Коли не загине,
Обіцявся вернутися.
Тойді Катерина
Буде собі московкою,
Забудеться горе;
А поки що, нехай люде
Що хотять говорять.
Не журиться Катерина -
Слізоньки втирає,
Бо дівчата на улиці
Без неї співають.
Не журиться Катерина -
Вмиється сльозою,
Возьме відра, опівночі
Піде за водою,
Щоб вороги не бачили;
Прийде до криниці,
Стане собі під калину,
Заспіває Гриця.
Виспівує, вимовляє,
Аж калина плаче.
Вернулася – і раденька,
Що ніхто не бачив.
Не журиться Катерина
І гадки не має -
У новенькій хустиночці
В вікно виглядає.
Виглядає Катерина…
Минуло півроку;
Занудило коло серця,
Закололо в боку.
Нездужає Катерина,
Ледве-ледве дише…
Вичуняла та в запічку
Дитину колише.
А жіночки лихо дзвонять,
Матері глузують,
Що москалі вертаються
Та в неї ночують:
«В тебе дочка чорнобрива,
Та ще й не єдина,
А муштрує у запічку
Московського сина.
Чорнобривого придбала…
Мабуть, сама вчила…»
Бодай же вас, цокотухи,
Та злидні побили,
Як ту матір, що вам на сміх
Сина породила.
Катерино, серце моє!
Лишенько з тобою!
Де ти в світі подінешся
З малим сиротою?
Хто спитає, привітає
Без милого в світі?
Батько, мати – чужі люде,
Тяжко з ними жити!
Вичуняла Катерина,
Одсуне кватирку,
Поглядає на улицю,
Колише дитинку;
Поглядає – нема, нема…
Чи то ж і не буде?
Пішла б в садок поплакати,
Так дивляться люде.
Зайде сонце – Катерина
По садочку ходить,
На рученьках носить сина,
Очиці поводить:
«Отут з муштри виглядала,
Отут розмовляла,
А там… а там… сину, сину!»
Та й не доказала.
Зеленіють по садочку
Черешні та вишні;
Як і перше виходила,
Катерина вийшла.
Вийшла, та вже не співає,
Як перше співала,
Як москаля молодого
В вишник дожидала.
Не співає чорнобрива,
Кляне свою долю.
А тим часом вороженьки
Чинять свою волю -
Кують речі недобрії.
Що має робити?
Якби милий чорнобривий,
Умів би спинити…
Так далеко чорнобривий,
Не чує, не бачить,
Як вороги сміються їй,
Як Катруся плаче.
Може, вбитий чорнобривий
За тихим Дунаєм;
А може – вже в Московщині
Другую кохає!
Ні, чорнявий не убитий,
Він живий, здоровий…
А де ж найде такі очі,
Такі чорні брови?
На край світа, в Московщині,
По тім боці моря,
Нема нігде Катерини;
Та здалась на горе!..
Вміла мати брови дати,
Карі оченята,
Та не вміла на сім світі
Щастя-долі дати.
А без долі біле личко -
Як квітка на полі:
Пече сонце, гойда вітер,
Рве всякий по волі.
Умивай же біле личко
Дрібними сльозами,
Бо вернулись москалики
Іншими шляхами.
II
Сидить батько кінець стола,
На руки схилився;
Не дивиться на світ божий:
Тяжко зажурився.
Коло його стара мати
Сидить на ослоні,
За сльозами ледве-ледве
Вимовляє доні: «Що весілля, доню моя?
А де ж твоя пара?
Де світилки з друженьками,
Старости, бояре?
В Московщині, доню моя!
Іди ж їх шукати,
Та не кажи добрим людям,
Що є в тебе мати.
Проклятий час-годинонька,
Що ти народилась!
Якби знала, до схід сонця
Була б утопила…
Здалась тоді б ти гадині,
Тепер – москалеві…
Доню моя, доню моя,
Цвіте мій рожевий!
Як ягодку, як пташечку,
Кохала, ростила
На лишенько… Доню моя,
Що ти наробила?..
Оддячила!.. Іди ж, шукай
У Москві свекрухи.
Не слухала моїх річей,
То її послухай. Іди, доню, найди її,
Найди, привітайся,
Будь щаслива в чужих людях,
До нас не вертайся!
Не вертайся, дитя моє,
З далекого краю…
А хто ж мою головоньку
Без тебе сховає?
Хто заплаче надо мною,
Як рідна дитина?
Хто посадить на могилі
Червону калину?
Хто без тебе грішну дуту
Поминати буде?
Доню моя, доню моя,
Дитя моє любе! Іди од нас…»
Ледве-ледве
Поблагословила:
«Бог з тобою!» – та, як мертва,
На діл повалилась…
Обізвався старий батько:
«Чого ждеш, небого?»
Заридала Катерина
Та бух йому в ноги:
«Прости мені, мій батечку,
Що я наробила!
Прости мені, мій голубе,
Мій соколе милий!»
«Нехай тебе бог прощає
Та добрії люде;
Молись богу та йди собі -
Мені легше буде».
Ледве встала, поклонилась,
Вийшла мовчки з хати;
Осталися сиротами
Старий батько й мати.
Пішла в садок у вишневий,
Богу помолилась,
Взяла землі під вишнею,
На хрест почепила;
Промовила: «Не вернуся!
В далекому краю,
В чужу землю, чужі люде
Мене заховають;
А своєї ся крихотка
Надо мною ляже
Та про долю, моє горе,
Чужим людям скаже…
Не розказуй, голубонько!
Де б ні заховали,
Щоб грішної на сім світі
Люди не займали.
Ти не скажеш… ось хто скаже,
Що я його мати!
Боже ти мій!.. лихо моє!
Де мені сховатись?
Заховаюсь, дитя моє,
Сама під водою,
А ти гріх мій спокутуєш
В людях сиротою,
Безбатченком!..»
Пішла селом,
Плаче Катерина;
На голові хустиночка,
На руках дитина.
Вийшла з села – серце мліє;
Назад подивилась,
Покивала головою
Та й заголосила.
Як тополя, стала в полі
При битій дорозі;
Як роса та до схід сонця,
Покапали сльози,
За сльозами яа гіркими
І світа не бачить,
Тілько сина пригортає,
Цілує та плаче.
А воно, як янгелятко,
Нічого не знає,
Маленькими ручицями
Пазухи шукає.
Сіло сонце, з-за діброви
Небо червоніє;
Утерлася, повернулась,
Пішла… тілько мріє.
В селі довго говорили
Дечого багато,
Та не чули вже тих річей
Ні батько, ні мати…
Отаке-то на сім світі
Роблять людям люде!
Того в"яжуть, того ріжуть,
Той сам себе губить…
А за віщо? Святий знає.
Світ, бачся, широкий,
Та нема де прихилитись
В світі одиноким.
Тому доля запродала
Од краю до краю,
А другому оставила
Те, де заховають.
Де ж ті люде, де ж ті добрі,
Що серце збиралось
З ними жити, їх любити?
Пропали, пропали!
Єсть на світі доля,
А хто її знає?
Єсть на світі воля,
А хто її має?
Єсть люде на світі -
Сріблом-злотом сяють,
Здається, панують,
А долі не знають,
Ні долі, ні волі!
З нудьгою та з горем
Жупан надівають,
А плакати – сором.
Возьміть срібло-злото
Та будьте багаті,
А я візьму сльози -
Лихо виливати;
Затоплю недолю
Дрібними сльозами,
Затопчу неволю
Босими ногами!
Тоді я веселий,
Тоді я багатий,
Як буде серденько
По волі гуляти!
III
Кричать сови, спить діброва,
Зіроньки сіяють,
Понад шляхом, щирицею,
Ховрашки гуляють.
Спочивають добрі люде,
Що кого втомило:
Кого – щастя, кого – сльози,
Все нічка покрила.
Всіх покрила темнісінька,
Як діточок мати;
Де ж Катрусю пригорнула:
Чи в лісі, чи в хаті?
Чи на полі під копою
Сина забавляє,
Чи в діброві з-під колоди
Вовка виглядає?
Бодай же вас, чорні брови,
Нікому не мати,
Коли за вас таке лихо
Треба одбувати!
А що дальше спіткається?
Буде лихо, буде!
Зустрінуться жовті піски
І чужії люде;
Зустрінеться зима люта…
А той чи зустріне,
Що пізнає Катерину,
Привітає сина?
З ним забула б чорнобрива
Шляхи, піски, горе:
Він, як мати, привітає,
Як брат, заговорить…
Побачимо, почуємо…
А поки – спочину
Та тим часом розпитаю
Шлях на Московщину.
Далекий шлях, пани-брати,
Знаю його, знаю!
Аж на серці похолоне,
Як його згадаю.
Попоміряв і я колись -
Щоб його не мірять!..
Розказав би про те лихо,
Та чи то ж повірять!
«Бреше, – скажуть, – сякий-такий!
(Звичайно, не в очі),
А так тілько псує мову
Та людей морочить».
Правда ваша, правда, люде!
Та й нащо те знати,
Що сльозами перед вами
Буду виливати?
Нащо воно? У всякого
І свого чимало…
Цур же йому!.. А тим часом
Кете лиш кресало
Та тютюну, щоб, знаєте,
Дома не журились.
А то лихо розказувать,
Щоб бридке приснилось!
Нехай його лихий візьме!
Лучче ж поміркую,
Де то моя Катерина
З Івасем мандрує.
За Києвом, та за Дніпром,
Попід темним гаєм,
Ідуть шляхом чумаченьки,
Пугача співають.
Іде шляхом молодиця,
Мусить бути, з прощі.
Чого ж смутна, невесела,
Заплакані очі?
У латаній свитиночці,
На плечах торбина,
В руці ціпок, а на другій
Заснула дитина.
Зустрілася з чумаками,
Закрила дитину,
Питається: «Люде добрі,
Де шлях в Московщину?»
«В Московщину? оцей самий.
Далеко, небого?»
«В саму Москву, Христа ради,
Дайте на дорогу!»
Бере шага, аж труситься:
Тяжко його брати!..
Та й навіщо?.. А дитина?
Вона ж його мати!
Заплакала, пішла шляхом,
В Броварях спочила7
Та синові за гіркого
Медяник купила.
Довго, довго, сердешная,
Все йшла та питала;
Було й таке, що під тином
З сином ночувала…
Бач, на що здалися карі оченята:
Щоб під чужим тином сльози виливать!
Отож-то дивіться та кайтесь, дівчата,
Щоб не довелося москаля шукать,
Щоб не довелося, як Катря шукає…
Тоді не питайте, за що люде лають,
За що не пускають в хату ночувать.
Не питайте, чорнобриві,
Бо люде не знають;
Кого бог кара на світі,
То й вони карають…
Люде гнуться, як ті лози,
Куди вітер віє.
Сиротині сонце світить
(Світить, та не гріє) -
Люде б сонце заступили,
Якби мали силу,
Щоб сироті не світило,
Сльози не сушило.
А за віщо, боже милий!
За що світом нудить?
Що зробила вона людям,
Чого хотять люде?
Щоб плакала!.. Серце моє!
Не плач, Катерино,
Не показуй людям сльози,
Терпи до загину!
А щоб личко не марніло
З чорними бровами -
До схід сонця в темнім лісі
Умийся сльозами.
Умиєшся – не побачать,
То й не засміються;
А серденько одпочине,
Поки сльози ллються.
Отаке-то лихо, бачите, дівчата.
Жартуючи кинув Катрусю москаль.
Недоля не бачить, з ким їй жартувати,
А люде хоч бачать, та людям не жаль:
«Нехай, – кажуть, – гине ледача дитина,
Коли не зуміла себе шанувать».
Шануйтеся ж, любі, в недобру годину,
Щоб не довелося москаля шукать.
Де ж Катруся блудить?
Попідтинню ночувала,
Раненько вставала,
Поспішала в Московщину;
Аж гульк – зима впала.
Свище полем заверюха,
Іде Катерина
У личаках – лихо тяжке! -
І в одній свитині.
Іде Катря, шкандибає;
Дивиться – щось мріє…
Либонь, ідуть москалики…
Лихо!.. серце мліє -
Полетіла, зустрілася,
Пита: «Чи немає
Мого Йвана чорнявого?»
А ті: «Мы не знаем».
І, звичайно, як москалі,
Сміються, жартують:
«Ай да баба! ай да наши!
Кого не надуют!»
Подивилась Катерина:
«І ви, бачу, люде!
Не плач, сину, моє лихо!
Що буде, то й буде.
Піду дальше – більш ходила..
А може, й зустріну;
Оддам тебе, мій голубе,
А сама загину».
Реве, стогне хуртовина,
Котить, верне полем;
Стоїть Катря серед поля,
Дала сльозам волю.
Утомилась заверюха,
Де-де позіхає;
Ще б плакала Катерина,
Та сліз більш немає.
Подивилась на дитину:
Умите сльозою,
Червоніє, як квіточка
Вранці під росою.
Усміхнулась Катерина,
Тяжко усміхнулась:
Коло серця – як гадина
Чорна повернулась.
Кругом мовчки подивилась;
Бачить – ліс чорніє,
А під лісом, край дороги,
Либонь, курінь мріє.
«Ходім, сину, смеркається,
Коли пустять в хату;
А не пустять, то й надворі
Будем ночувати.
Під хатою заночуєм,
Сину мій Іване!
Де ж ти будеш ночувати,
Як мене не стане?
З собаками, мій синочку,
Кохайся надворі!
Собаки злі, покусають,
Та не заговорять,
Не розкажуть сміючися…
З псами їсти й пити…
Бідна моя головонько!
Що мені робити?»
Сирота-собака має свою долю,
Має добре слово в світі сирота;
Його б"ють і лають, закують в неволю,
Та ніхто про матір на сміх не спита,
А Йвася спитають, зараннє спитають,
Не дадуть до мови дитині дожить.
На кого собаки на улиці лають?
Хто голий, голодний під тином сидить?
Хто лобуря водить?
Чорняві байстрята…
Одна його доля – чорні бровенята,
Та й тих люде заздрі не дають носить.
IV
Попід горою, яром, долом,
Мов ті діди високочолі,
Дуби з гетьманщини стоять.
У яру гребля, верби в ряд,
Ставок під кригою в неволі
І ополонка – воду брать…
Мов покотьоло – червоніє,
Крізь хмару – сонце зайнялось.
Надувся вітер; як повіє -
Нема нічого: скрізь біліє…
Та тілько лісом загуло.
Реве, свище заверюха.
По лісу завило;
Як те море, біле поле
Снігом покотилось.
Вийшов з хати карбівничий,
Щоб ліс оглядіти,
Та де тобі! таке лихо,
Що не видно й світа.
«Еге, бачу, яка фуга!
Цур же йому я лісом!
Піти в хату… Що там таке?
От їх достобіса!
Недобра їх розносила,
Мов справді за ділом.
Ничипоре! дивись лишень,
Які побілілі!» «Що, москалі?..
Де москалі?» «Що ти? схаменися!»
«Де москалі, лебедики?»
«Та он, подивися».
Полетіла Катерина
І не одяглася.
«Мабуть, добре Московщина
В тямку їй далася!
Бо уночі тілько й знає,
Що москаля кличе».
Через пеньки, заметами,
Летить, ледве дише,
Боса стала серед шляху,
Втерлась рукавами.
А москалі їй назустріч,
Як один, верхами.
«Лихо моє! доле моя!»
До їх… коли гляне -
Попереду старший їде.
«Любий мій Іване!
Серце моє коханеє!
Де ти так барився?»
Та до його… за стремена…
А він подивився,
Та шпорами коня в боки.
«Чого ж утікаєш?
Хіба забув Катерину?
Хіба не пізнаєш?
Подивися, мій голубе,
Подивись на мене:
Я Катруся твоя люба.
Нащо рвеш стремена?»
А він коня поганяє,
Нібито й не бачить.
«Постривай же, мій голубе!
Дивись – я не плачу.
Ти не пізнав мене, Йване?
Серце, подивися,
Їй же богу, я Катруся!»
«Дура, отвяжися!
Возьмите прочь безумную!»
«Боже мій! Іване!
І ти мене покидаєш?
А ти ж присягався!»
«Возьмите прочь!
Что ж вы стали?
«Кого? мене взяти?
За що ж, скажи, мій голубе?
Кому хоч оддати
Свою Катрю, що до тебе
В садочок ходила,
Свою Катрю, що для тебе
Сина породила?
Мій батечку, мій братику!
Хоч ти не цурайся!
Наймичкою тобі стану…
З другою кохайся…
З цілим світом…
Я забуду,
Що колись кохалась,
Що од тебе сина мала,
Покриткою стала…
Покриткою… який сором!
І за що я гину!
Покинь мене, забудь мене,
Та не кидай сина.
Не покинеш?..
Серце моє,
Не втікай од мене…
Я винесу тобі сина».
Кинула стремена
Та в хатину. Вертається,
Несе йому сина.
Несповита, заплакана
Сердешна дитина.
«Осьде воно, подивися!
Де ж ти? заховався?
Утік!.. нема!.. Сина, сина
Батько одцурався!
Боже ти мій!.. Дитя моє!
Де дінусь з тобою?
Москалики! голубчики!
Возьміть за собою;
Не цурайтесь, лебедики:
Воно сиротина;
Возьміть його та оддайте
Старшому за сина,
Возьміть його… бо покину,
Як батько покинув,
Бодай його не кидала
Лихая година!
Гріхом тебе на світ божий
Мати породила;
Виростай же на сміх людям! -
На шлях положила.
Оставайся шукать батька,
А я вже шукала».
Та в ліс з шляху, як навісна!
А дитя осталось,
Плаче бідне… А москалям
Байдуже; минули.
Воно й добре; та на лихо
Лісничі почули.
Біга Катря боса лісом,
Біга та голосить;
То проклина свого Йвана,
То плаче, то просить.
Вибігає на возлісся;
Кругом подивилась
Та в яр… біжить… серед ставу
Мовчки опинилась.
«Прийми, боже, мою душу,
А ти – моє тіло!»
Шубовсть в воду!..
Попід льодом
Геть загуркотіло.
Чорнобрива Катерина
Найшла, що шукала.
Дунув вітер понад ставом -
І сліду не стало.
То не вітер, то не буйний,
Що дуба ламає;
То не лихо, то не тяжке,
Що мати вмирає;
Не сироти малі діти,
Що неньку сховали:
Їм зосталась добра слава,
Могила зосталась.
Засміються злії люде
Малій сиротині;
Виллє сльози на могилу -
Серденько спочине.
А тому, тому на світі,
Що йому зосталось,
Кого батько і не бачив,
Мати одцуралась?
Що зосталось байстрюкові?
Хто з ним заговорить?
Ні родини, ні хатини;
Шляхи, піски, горе…
Панське личко, чорні брови..
Нащо? Щоб пізнали!
Змальовала, не сховала…
Бодай полиняли!
V
Ішов кобзар до Києва
Та сів спочивати,
Торбинками обвішаний
Його повожатий.
Мале дитя коло його
На сонці куняє,
А тим часом старий кобзар
І с у с а співає.
Хто йде, їде – не минає:
Хто бублик, хто гроші;
Хто старому, а дівчата
Шажок міхоноші.
Задивляться чорноброві -
І босе, і голе.
«Дала, – кажуть, – бровенята,
Та не дала долі!»
Іде шляхом до Києва
Берлин шестернею,
А в берлині господиня
З паном і сем"єю.
Опинився против старців -
Курява лягає.
Побіг Івась, бо з віконця
Рукою махає.
Дає гроші Івасеві,
Дивується пані.
А пан глянув… одвернувся..
Пізнав, препоганий,
Пізнав тії карі очі,
Чорні бровенята…
Пізнав батько свого сина,
Та не хоче взяти.
Пита пані, як зоветься?
«Івась», – «Какой милый!»
Берлин рушив, а Івася
Курява покрила…
Полічили, що достали,
Встали сіромахи,
Помолились на схід сонця,
Пішли понад шляхом.
Самое употребительное, распространенное, в общем, справедливое определение основоположника новой украинской литературы Тараса Шевченко - народный поэт; стоит, однако, подумать над тем, что в это подчас вкладывается.
Были люди, которые считали Шевченко только грамотным слагателем песен в народном духе, только известным по имени продолжателем безыменных народных певцов. Для этого взгляда были свои основания. Шевченко вырос в народной песенной стихии, хотя, заметим, и очень рано был оторван от нее. Не только из его стихотворного наследия, но и из его написанных по-русски повестей и дневника и из многочисленных свидетельств современников мы видим, что поэт превосходно знал и страстно любил родной фольклор.
В своей творческой практике Шевченко нередко прибегал к народной песенной форме, подчас полностью сберегая ее и даже вкрапливая в свои стихи целые строфы из песен. Шевченко иногда чувствовал себя действительно народным певцом-импровизатором. Стихотворение его «Ой не п’ються пива, меди» - о смерти чумака в степи - все выдержано в манере чумацких песен, больше того - может считаться даже вариантом одной из них.
Мы знаем шедевры «женской» лирики Шевченко, стихотворения-песни, написанные от женского или девичьего имени, свидетельствующие о необыкновенной чуткости и нежности как бы перевоплотившегося поэта. Такие вещи, как «Якби меш черевики», «I багата я», «Полюбилася я», «Породила мене мати», «У перетику ходила», конечно, очень похожи на народные песни своим строем, стилевым и языковым ладом, своей эпитетикой и т. п., но они резко отличаются от фольклора ритмическим и строфическим построением. «Дума» в поэме «Слепой» написана действительно в манере народных дум, однако отличается от них стремительностью сюжетного движения.
Вспомним далее такие поэмы Шевченко, как «Сон», «Кавказ», «Мария», «Неофиты», его лирику, и согласимся, что определение Шевченко как поэта народного только в смысле стиля, стихотворной техники и т. п. приходится отвергнуть. Шевченко - поэт народный в том смысле, в каком мы говорим это о Пушкине, о Мицкевиче, о Беранже, о Петефи. Здесь понятие «народный» сближается с понятиями «национальный» и «великий».
Первое дошедшее до нас стихотворное произведение Шевченко - баллада «Порченая» («Причинна») - начинается совершенно в духе романтических баллад начала XIX века - русских, украинских и польских, в духе западноевропейского романтизма:
Широкий Днепр ревет и стонет,
Сердитый ветер листья рвет,
К земле все ниже вербы клонит
И волны грозные несет.
А бледный месяц той порою
За темной тучею блуждал.
Как челн, настигнутый волною,
То выплывал, то пропадал.
Здесь - все от традиционного романтизма: и сердитый ветер, и бледный месяц, выглядывающий из-за туч и подобный челну среди моря, и волны, высокие, как горы, и вербы, гнущиеся до самой земли… Вся баллада построена на фантастическом народном мотиве, что тоже характерно для романтиков и прогрессивного и реакционного направления.
Но за только что приведенными строчками идут такие:
Еще в селе не просыпались,
Петух зари еще не пел,
Сычи в лесу перекликались,
Да ясень гнулся и скрипел.
«Сычи в лесу» - это тоже, конечно, от традиции, от романтической поэтики «страшного». Но ясень, время от времени скрипящий под напором ветра, - это уже живое наблюдение над живой природой. Это уже не народно-песенное и не книжное, а свое.
Вскоре за «Порченой» (предположительно 1837 г.) последовала знаменитая поэма «Катерина». По сюжету своему поэма эта имеет ряд предшественниц, с «Бедной Лизой» Карамзина во главе (не говоря уже о гетевском «Фаусте»). Но вчитайтесь в речь ее героев и сравните эту речь с речью карамзинской Лизы и ее обольстителя, приглядитесь к шевченковским описаниям природы, быта, характеров - и вы увидите, насколько Шевченко ближе, чем Карамзин, к земле, и при этом к родной земле. Черты сентиментализма в этой поэме может усматривать только человек, не желающий замечать суровой правдивости ее тона и всего повествования.
Вполне реалистично описание природы, которым открывается. четвертая часть поэмы:
И на горе и под горою,
Как старцы с гордой головою,
Дубы столетние стоят.
Внизу - плотина, вербы в ряд,
И пруд, завеянный пургою,
И прорубь в нем, чтоб воду брать…
Сквозь тучи солнце закраснело,
Как колобок, глядит с небес!
В оригинале у Шевченко солнце краснеет, как покотъоло, - по словарю Гринченко, это кружок, детская игрушка. Вот с чем сравнивал молодой романтик солнце! Употребленное М. Исаковским в его новой редакции перевода слово колобок кажется мне превосходной находкой.
Лирика Шевченко начиналась такими песнями-романсами, как «На что черные мне брови…», но она все более и более приобретала черты реалистического, беспредельно искреннего разговора о самом заветном, - достаточно вспомнить хотя бы «Мне, право, все равно…», «Огни горят», знаменитое «Как умру, похороните…» (традиционное название - «Завещание»).
Очень характерной чертой шевченковской поэтики являются контрастные словосочетания, которые в свое время подметил еще Франко: «недоля жартуе», «пекло смiеться», «лихо смiеться», «журба в шинку мед-горшку поставцем кружала» и т. п.
Его поздние поэмы - «Неофиты» (якобы из римской истории) и «Мария» (на евангельский сюжет) - изобилуют реалистическими бытовыми подробностями. Евангельская Мария у него «вовну бшую пряде» на праздничный бурнус для старика Иосифа.
Тарас Григорьевич Шевченко
КОБЗАРЬ
В переводе русских писателей:
Н. В. Берга, И. А. Бунина, И. А. Белоусова, Ф. Т. Гаврилова, И. В. Гербеля,
В. А. Гиляровского, Е. П. Гославского, Н. Н. Голованова, С. Д. Дрожжина,
В. В. Крестовского, П. М. Ковалевского, А. А. Коринфского, Л. А. Мея,
М. И. Михайлова, С. А. Мусина-Пушкина, А. А. Монастырского, А. Н. Плещеева, Н. Л. Пушкарева, И. Д. Радионова, И. 3. Сурикова, П. А. Тулуба, А. Шкаффа и др.
25 февраля 1814 года, в селе Моринцах, Звенигородского уезда, Киевской губернии, у крепостного крестьянина помещика Энгельгардта, Григория Шевченка, родился сын Тарас, – будущий знаменитый украинский поэт. Тарас был третьим ребенком у Григория: – первым был сын Никита, а вторым – дочь Катерина. Вскоре после рождения Тараса отец переселился жить в с. Кириловку, того же уезда, где и протекли первые младенческие годы будущего поэта; на этом основании Т. Г Шевченко в своей известной автобиографии, написанной по просьбе редактора журнала «Народное Чтение» А. А. Оболенского, – Кириловку называет своей родиной.
Как прошло детство Т. Г. Шевченка, об этом мы находим описание в одном из его сочинений на великорусском языке. Вот как он вспоминает о своем детстве:
«Передо мною наша бедная, старая, белая хата, с потемневшею соломенною крышей и черным «дымарем», а около хаты «на причилку», яблоня с краснобокими яблоками, а вокруг яблони цветник, любимец моей незабвенной сестры, моей терпеливой, моей нежной няньки. А у ворот стоит старая развесистая верба с засохшею верхушкою, а за вербою «клуня» (хлебный сарай), а за «клунею» по косогору пойдет уже сад, а за садом – «левада» (сенокос), – а за «левадою» – долина, а в долине тихий, едва журчащий, ручеек, уставленный вербами и калиною, окутанный широколиственными, темно-зелеными лопухами. А в этом ручейке купается кубический белокурый мальчуган; выкупавшись, вбегает в тенистый сад, падает под первою грушею и засыпает… Проснувшись, он смотрит на противоположную гору и думает: а что же там, за горою?.. Там должны быть железные столбы, что поддерживают небо!..»
«И пошел этот белокурый мальчуган (не кто иной, как автор рассказа, Тарас Григорович), к железным столбам, долго шел, до самой ночи, и пришел, сам не зная куда; к счастью, попались ему чумаки и довезли его до дому… Когда я пришел домой, то старшая сестра (продолжает рассказ Шевченко) подбежала ко мне, схватила меня на руки, понесла через двор и посадила в кружок «вечерять» (ужинать), сказавши: «Сидай вечерять, приблудо». – Повечерявши, сестра повела меня спать, уложила в постель, перекрестила, и поцеловала»…
Эти воспоминания относятся к 5–6 летнему возрасту поэта. Как видно, здесь Тарас Григорович с большой любовью вспоминает о сестре и ни слова не говорит о матери. Как объяснить это обстоятельство? По-нашему, очень просто: мать, «вековечная работница», батрачка для своей семьи, не могла заниматься с детьми, которых у нее после Тараса было еще двое – Ирина и Осип. Дети были предоставлены сами себе: старшие сестры исполняли роль нянек для младших братьев.
В 1823 г. умерла мать Шевченка; с этого года в жизни маленького Тараса произошла большая перемена: беззаботное детство кончилось, началась жизнь, полная лишений, невзгод и несчастий, не покидавших поэта до самых последних дней его жизни.
Отец Шевченка, у которого на руках осталось 5 человек детей, никак не мог вести хозяйство без женщины и вскоре после смерти своей первой жены женился во второй раз на вдове с детьми. Пошли раздоры; – мачеха возненавидела Тараса за враждебное отношение его к ее детям, за скрытность и упрямство, но отец не переставал заботиться о сиротах, оставшихся без родной матери: не желая, чтобы, дети его были безграмотными, Григорий Шевченко отдал маленького Тараса учиться к мещанину Губскому.
Грамота далась мальчику сразу, но успехам в обучении мешали нескончаемые шалости и проказы свободолюбивого ребенка. К тому же это учение прервалось, благодаря горестному обстоятельству: умер Григорий Шевченко, когда сыну его Тарасу минуло только 11 лет. Умирая, Григорий Шевченко оставлял своих детей от 1-й жены круглыми сиротами и вот ему хотелось чем-нибудь их обеспечить; когда, при разделе «крестьянской худобы», дошла очередь до Тараса, Григорий сказал: «Сыну Тарасу из моего хозяйства ничего не нужно; он не будет каким-нибудь человеком: из него выйдет или что-нибудь очень хорошее, или большой негодяй»…
После смерти мужа мачеха, чтобы избавиться от лишнего рта в доме, чтобы не видеть надоедливого ребенка, постаралась сбыть Тараса из дома: она нашла ему занятие, – пасти свиней и телят кирилловских крестьян. С ломтем черного хлеба за пазухой, с кнутом в руках, мальчик целые дни проводил на пастбище, в степи, где только одни «могилы» – курганы «стоят и сумуют». Тарас любил эти безмолвные «могилы»; – ляжет на траву, подопрет голову ручонками и смотрит долго, долго в синюю даль. Кто знает, – может быть эти родные картины привольных степей так резко запечатлелись в детском мозгу, что потом выплыли наружу, вылились в чудных стихах в период творческой деятельности поэта…
Но вот наступила зима; – Тарас остался опять без дела, опять мачехе надо было думать, что делать с ненавистным пасынком; чтобы выжить его из дома, она отдала его в ученье к дьячку Бугорскому, где Тарас снова засел за Часослов и Псалтирь; потом он перешел к священнику Нестеровскому, где научился писать… Что за преподаватель был Бугорский, можно судить по тому, что сам поэт писал впоследствии в своих воспоминаниях: «Мое детское сердце было оскорблено этим исчадием деспотических семинарий миллион раз, и я кончил с ним так, как вообще оканчивают выведенные из терпения беззащитные люди – местью и бегством.
«Найдя его однажды бесчувственно пьяным, я употребил против него собственное его оружие – розги и, насколько хватило детских сил, отплатил ему за все жестокости»…
Сначала Шевченко скрывался в садах, куда сестры носили ему пищу; потом Тарас бежал в м. Лисянку к дьякону, который занимался «малярным искусством», т. е. был живописец. Страсть к рисованию уже в это время у Шевченка пробудилась; но только 4 дня мог выдержать Тарас у дьякона – «художника», не отличавшегося ничем в приемах преподавания от прежних учителей. Сначала Шевченко направился в Стеблов (Каневского у.), а потом в Тарасовку к дьячку – «хиромантику», но этот последний наставник нашел будущего поэта ни к чему не способным и удалил от себя.
Куда было двинуться бедняге – сироте? Он вернулся в родное село; – больше, кажется, некуда было идти? Он решил опять приняться за прежнюю работу – пасти свиней и телят.
Старший брат Шевченка, Никита, хотел было приучить Тараса к хозяйству, но подвижная натура Тараса была не сродни этому упорному и постоянному труду, – и он опять покинул родное село и поселился в селении Хлебновском, славящемся «малярами». Один из хлебновских «маляров» продержал его две недели, а больше держать не решился: у крепостного мальчика не было отпускного свидетельства. За этим-то свидетельством и посоветовал «маляр – хозяин» Тарасу сходить к управляющему имениями Энгельгардта – Димитренко; к нему и отправился Шевченко; но управляющий, вместо того, чтобы дать ему разрешение на жительство в Хлебновском, заметив расторопность 15-ти-летнего юноши, оставил его у себя в числе дворовой челяди. Это случилось в 1829 году, а как раз в это время Энгельгардту потребовались разные дворовые люди, которых он и приказал управляющему набрать из своих крепостных. Димитренко собрал до дюжины мальчиков, в число которых попал и Шевченко; перед отправлением их к барину в Вильно, управляющий сначала разместил их у себя на разные должности в виде испытания. Шевченко попал в поваренки и стал помогать главному повару; на его обязанности лежало носить дрова, чистить кастрюли, выносить помои. Но страсть к рисованию не покидала Шевченка и среди этой работы: в глухом уголке сада он устроил нечто вроде картинной галереи, – развесил по сучкам картинки, – и в свободную минутку уходил туда списывать с них карандашом копии. Если отсутствие «художника» замечалось главным поваром, то «художник» получал неизбежную дерку.
После испытания дворовых, Димитренко отправил их в Вильно с поименным списком, в котором значились способности и качества каждого. Будущий поэт был отмечен – «годным для комнатного живописца».
Однако на этот аттестат в Вильно не обратили внимания, и Шевченко сделали «комнатным казачком», занятие которых состояло в постоянном пребывании в передних, в подавании трубки и проч. Но и здесь художник вырвался наружу: Шевченко срисовывал все, как только находил время и место.
Барин в это время путешествовал по России; Шевченко следовал за ним в качестве неотлучного казачка. Прошел год; барин, может быть, заметил наклонности к художеству у Шевченка и, в бытность свою в Варшаве, отдал его в науку к комнатному живописцу, но последний, обладая искусством красить только потолки и стены, заметил необыкновенные способности ученика и объявил об этом барину, посоветовав отдать Шевченка известному в то время портретисту Лампи. Энгельгардт, в надежде иметь своего хорошего художника, воспользовался советом и «казачка» преобразили: обчистили, вымыли, приодели и приказали ходить на уроки, которые, однако, продолжались недолго: по случаю восстания в Польше, Энгельгардт уехал в Петербург, а всю свою дворню приказал отправить туда по этапу; этот прием объясняется тем, что помещику не хотелось тратиться на доставку людей, да кстати, чтобы быть гарантированным от побега с дороги.
По прибытии в Петербург Энгельгардт не оставил намерения сделать из Шевченка «своего» художника и отдал его на 4 года к живописцу Ширяеву. Этот новый учитель Шевченка применял точно такие же приемы в преподавании, как и предыдущие его наставники, – т. е. дьячок-спартанец, дьякон-«маляр» и другой дьячок – «хиромантик».
«Несмотря на весь гнет его тройственного гения, – пишет Шевченко, – я в светлые осенние ночи бегал в Летний сад рисовать со статуй». В это время Шевченко познакомился с художником – земляком, Иваном Максимовичем Сошенко… И. М. Сошенко так рассказывает о своем знакомстве с Тарасом Григоровичем: «Когда я был «в гипсовых головах», или нет, кажется «в фигурах», не то в 35-м, не то в 36-м году, вместе со мной приходил в академию швагер Ширяева. От него я узнал, что у его зятя находится в мальчиках мой земляк Шевченко, о котором я кое-что слыхал еще в Ольшаной, живя у своего первого учителя, Превлоцкого. Я убедительно просил. родственника Ширяева прислать земляка ко мне на квартиру. Узнав о моем желании познакомиться с ним, Тарас на другой же день, в воскресенье, отыскал мою квартиру в 4-й линии Васильевского острова и явился ко мне в таком виде: на нем был замасленный тиковый халат; рубаха и штаны из толстого деревенского холста были запачканы в краске; босой, «расхристанный» и без шапки. Он был угрюм и застенчив.
С первого же дня я заметил в нем сильное желание учиться живописи. Он начал ходить ко мне, не пропуская ни одного праздника. Во время таких посещений, Тарас урывками передавал мне некоторые эпизоды из своего прошлого и почти всегда заканчивал свои рассказы ропотом на судьбу…»
Сошенко был тронут участью своего молодого земляка и всей душой желал помочь ему. Прежде всего, он посоветовался со своим знакомым, известным малорусским писателем Е. Гребенкой. Гребенка сердечно отнесся к Тарасу Григоровичу: он помогал ему и советами, и деньгами; давал ему читать книги из своей библиотеки. Но Сошенко не довольствовался этим первым шагом к облегчению участи Шевченка: он обратился с просьбою к секретарю академии Григоровичу избавить даровитого юношу от тяжелого положения у живописца Ширяева.
В это время Тарас Григорович через Гребенку познакомился с придворным живописцем Венециановым, который, по просьбе Григоровича, представил Шевченка В. А. Жуковскому. Можно судить, как повлияли эти знакомства на молодого человека. Жуковский, желая ближе познакомиться с начинающим художником, задал ему тему: описать жизнь художника. Как удовлетворил желание Жуковского Шевченко, осталось неизвестным. Известно только, что с того времени воспитатель Державного Освободителя крестьян стал усиленно хлопотать о выкупе крепостного автора.
А жизнь Шевченка у Ширяева шла своим чередом; положение не изменялось. Проработавши целый день в мастерской, Шевченко поздними вечерами или по ночам любил уходить в Летний сад, набрасывать контуры со статуй или мечтать о свободе.
В этом же Летнем саду начались его первые литературные опыты. «Украинская строгая муза, – говорит он, – долго чуждалась моего вкуса, извращенного жизнью в школе, в помещичьей передней, на постоялых дворах и городских квартирах. Но когда предчувствие свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой стороне»…
Заветной мечтой Шевченка было попасть в академию; Энгельгардт, преследуя цель иметь дарового художника, не был против этого желания, но как раз доступ в академию в это время крепостным был закрыт; Шевченко остался на полдороге; заветные мечты были разрушены; гнет крепостничества еще тяжелее лег на его чуткую душу, и когда он узнал, что взявшиеся хлопотать об освобождении его от крепостной зависимости, – даже такие влиятельные люди, как Жуковский и Вьельгорский, – ничего не могли поделать с упрямым помещиком, – нехорошее чувство проснулось в сердце, много наболевшем сердце, поэта, и он в минуту раздражения поклялся жестоко отомстить своему господину. Это было в квартире у Сошенька: последний, видя такое настроение своего друга, очень беспокоился за него, понимая, что в подобные минуты человек на все способен…
Сошенко пошел к Ширяеву и упросил его дать Шевченку месячной отпуск, чтобы он ходил для изучения живописи в залу общества поощрения художеств. Ширяев согласился; но гнетущее состояние не покидало поэта. Случайно узнал об этом В. А. Жуковский и прислал успокоительную записку. Насколько был благодарен Шевченко Жуковскому за его участие и сердечное отношение к нему, можно заключить из того, что присланную Жуковским записку Тарас Григорович хранил, как святыню, и постоянно носил ее при себе.
Если эта записка могла успокоить Шевченка, то в ней, наверное, было высказано что-нибудь положительное относительно его освобождения.
Кроме Жуковского много хлопотал об освобождении поэта и К. П. Брюлов; он сам ездил к Энгельгардту, но вынес из своего посещения лишь то убеждение, «что это самая крупная свинья» и больше не поехал к Энгельгардту, но попросил съездить к нему Сошенка. Последний в свою очередь упросил Венецианова, как более влиятельного человека, которому Энгельгардт прямо отрезал: «Моя решительная цена – 2500 рублей».
Тогда Брюлов с Жуковским придумали средство добыть «цену свободы». – Брюлов взялся написать портрет с Жуковского и разыграть его в лотерею, и на собранные деньги выкупить Шевченка. Шевченко в это время заболел тифом и лежал в больнице. Портрет был готов; билеты распроданы. Между прочим, участие в этой лотерее принимала и Царская Фамилия. Розыгрыш состоялся, и 22 апреля 1838 г. Шевченко стал свободным человеком; он в это время находился на пути к выздоровлению и ничего не знал о случившемся. Сошенко хотел было сейчас же известить друга о такой великой радости, но доктор посоветовал обождать, чтобы сильное волнение не повредило неокрепшему здоровью больного. Однако Шевченко узнал о своей свободе от Ширяева, и когда Сошенко пришел в больницу навестить его, то Тарас Григорович спросил его: «Правда ли, что меня выкупили?» Сошенко ответил: «Пока похоже на правду». Шевченко залился слезами и долго не мог успокоиться.
По выходе из больницы Шевченко начал посещать классы академии художеств. Поселился он у своего земляка – Сошенка. Перемена, происшедшая в жизни недавнего крепостного, бесконечно радовала его. «Я, – пишет в своих воспоминаниях Шевченко, – ничтожный замарашка, на крыльях перелетел в волшебные залы академии и пользовался наставлениями и дружескою доверенностью величайшего из художников».
В это время через Брюлова Шевченко познакомился с лучшими петербургскими домами; он вошел в моду; его приглашали, как диковинку, и он стал разъезжать по вечерам, одеваться франтом. «Вообще, – говорит Сошенко, – в него вселился светский бес», и не раз журил его за это и заставлял не тратить попусту время, а приниматься за дело; делом же Сошенко считал только живопись. «Я и сам думал, – пишет Шевченко в 1857 году, – что живопись – моя будущая профессия и насущный хлеб, но вместо того, чтобы изучать глубокие таинства живописи, под руководством такого учителя, как бессмертный Брюлов, я, – говорит он, – сочинял стихи, за которые мне никто гроша не платил и которые лишили меня свободы»…
«Что же я делал в этом святилище (в мастерской Брюлова)? – спрашивает себя Шевченко и отвечает: «Странно подумать, – я занимался тогда сочинением малороссийских стихов, которые такою тяжестью впоследствии упали на мою душу. Перед дивными произведениями Брюлова я задумывался и лелеял в своем сердце «Слепца-Кобзаря» и своих кровожадных «Гайдамак». В тени его изящно-роскошной мастерской, как в знойной степи надднепровской, передо мною мелькали мученические тени бедных гетманов. Передо мной расстилалась степь, усеянная курганами. Передо мной красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина во всей непорочной, меланхолической красоте своей. Я не мог отвести духовных очей своих от этой родной, чарующей прелести… Призвание – и ничего больше!..»
У Сошенка Тарас Григорович прожил 4 месяца, потом поселился у художника Михайлова.
Как ни велики были соблазны светской жизни, однако, поэт не забывал и себя: в первые годы академической жизни, в 1888–1889 году, Тарас Григорович особенно усиленно работал над своим развитием; в этом рвении к самообразованию ему много способствовали Брюлов и Гребенка. Обширная библиотека Брюлова была открыта для Шевченка и в ней он прочитал лучшие произведения русских и польских художников слова; не довольствуясь этим, он посещал некоторые лекции профессоров университета, учился французскому языку…
Круг знакомых у Шевченка расширился: много было знакомых художников, были и свои братья-земляки… Но как ни хорошо чувствовал себя Шевченко, освобожденный от крепостной зависимости, он ни на минуту не забывал, что его братья и сестры все еще крепостные. Он писал письма в деревню, входил в их семейные дела, и вообще заботился об их положении.
В конце 1839 года, Шевченко познакомился с П.И. Мартосом, который ходил к нему на сеансы. В это время Гребенка задумал издать стихотворения Шевченка, но не находилось издателя; таковым согласился быть Мартос, и в следующем 1840 году вышел небольшой сборник стихов Шевченко на малорусском наречии, под заглавием «Кобзарь».
На Украине пришли в восторг от стихов родного поэта, и радостно приветствовали появление «Кобзаря». Старый писатель Квитка-Основьяненко, получивши экземпляр «Кобзаря», вот что писал его автору: «Когда мы с женой начали читать «Кобзаря», волосы на голове поднялись, в глазах зеленело, а сердце как-то болит… Я прижал вашу книгу к сердцу; ваши мысли ложатся на сердце… Хорошо! Очень хорошо! Больше не умею сказать».
В 184 1 г. вышла отдельным изданием поэма «Гайдамаки».
Первое появление в печати произведений Тараса Григоровича было встречено русскими критиками глумлением и насмешками над малорусским наречием и народностью. Отзывы эти сильно повлияли на Шевченка, и он начал писать по-русски; насколько известно, в это время им была написана драма «Слепая красавица». Друзья-земляки старались убедить поэта в ложном понимании критики и указывали ему на то, что критика признает его талант, а только нападает на язык и на то, что он, «мужичий поэт». Шевченко долго колебался и, наконец, в 1843 г., так высказался в своем письме к Тарновскому:
«Меня называют энтузиастом, т. е. дураком, – ну и пусть! Пускай я буду мужичий поэт, лишь бы только поэт; мне больше ничего и не надо!»…
В 1843 г. Тарас Григорович отправился на родину; первое время он начал было усердно посещать балы богатых помещиков, которые большую часть времени проводили за картами и выпивкой и даже образовали общество «Мочемордия». Шевченко разделял сначала компанию с этими «мочимордами», но скоро он разочаровался в них: крепостной гнет, который поэт видел на каждом шагу, отравлял минуты его существования. Чужбинский в своих воспоминаниях рассказывает очень характерный случай, происшедший с Шевченком при посещении им одного богатого пана. «Мы пришли, – говорит Чужбинский, – на обед довольно рано. В передней слуга дремал на скамейке. К несчастию, его хозяин выглянул в дверь и, увидев дремавшего слугу, разбудил его собственноручно, по-своему, не стесняясь нашим присутствием. Тарас Григорьевич покраснел, надел шапку и ушел домой».
Другой случай, подобный первому, произошел с помещиком Лукашевичем:
«Однажды, в суровую зиму, Лукашевич прислал своего крепостного человека в Яготин к Шевченку (за 30 верст расстояния) по какому-то неважному делу и строго наказал ему возвратиться с ответом в тот же день. Узнав о таком бесчеловечном приказании слуге, Тарас Григорович не хотел верить своим ушам; но факт был налицо и ему пришлось горько разочароваться в своем мнении о человеке, которого он считал за порядочного. Шевченко написал Лукашевичу письмо, полное желчи и негодования, и заявил ему, что прекращает навсегда с ним знакомство».
Крепостник Лукашевич ответил Тарас Григоровичу письмом, где было ясно высказано, что таких олухов, как Шевченко, у него 300 душ». Первое время, когда Тарас Григорович рассказывал кому-нибудь об этом случае, то плакал, как ребенок.
Но среди подобного рода знакомых выдавались люди, отличавшиеся гуманностью и образованием: к числу последних принадлежала семья украинского генерал-губернатора кн. Репнина, к дочери которого, княгине Варваре Николаевне, Тарас Григорович питал какое-то особенное благоговение.
В 1844 г. Шевченко был на родине, а в следующем году снова посетил родные места; на этот раз он изъездил большую часть Украины и побывал у всех своих родных и везде был встречаем с приветствиями. Явилась масса знакомств, двери квартиры, занимаемой им, не затворялись, – все спешили взглянуть на своего Кобзаря.
Весною 1846 г. Шевченко приехал в Киев; здесь он задумал срисовать многие достопримечательности этого города: поселился он на квартире художника Сожина. «Вечером – говорит Чужбинский, – мы все трое сходилось. Ничего не было приятнее наших вечеров; мы усаживались за чай и передавали друг другу свои дневные приключения».
В этом же 1846 г., в Киеве, Шевченко познакомился с Н. И. Костомаровым. «Жил я тогда, – пишет Н. И. Костомаров, – на Крещатике, в д. Сухоставского.
«Напротив моей квартиры был трактир с номерами, а в одном из этих номеров появился Шевченко, по возвращении из-за днепровской Украины. После Пасхи, не помню с кем из моих знакомых, пришел ко мне Шевченко и с первого раза произвел на меня приятное впечатление. Достаточно было с этим человеком поговорить час, чтобы вполне сойтись с ним и почувствовать к нему сердечную привязанность.
«В это время мою душу занимала идея славянской взаимности. В первый день праздника Рождества Христова, того же 46 г. мы сошлись с поэтом и одним молодым помещиком у нашего общего приятеля Н.И. Гулака. Разговор у нас шел о делах славянского мира; высказывались надежды будущего соединения славянских народов в одну федерацию, под скипетром Всероссийского Императора, и я при этом излагал мысль о том, как было бы хорошо существование «ученого общества славянского». Общество это должно было называться «Кирилло-Мефодиевским».
«Между тем, за стеной квартиры Гулака была другая квартира, из которой слушал наши беседы какой-то неизвестный господин, оказавшийся студентом Алек. Петровым, который постарался написать и послать куда следует сообщение о нас, сбив чудовищным образом в одно целое наши разговоры о славянской взаимности и об эпохе Хмельницкого, которою я тогда усердно занимался, и выведя отсюда существование политического общества».
Вскоре после этого события Шевченко уехал в Черниговскую губернию, и когда он через несколько дней возвращался в Киев, был задержан на пароме при переправе через Днепр полицейским чиновником.
В июне 1847 г. Шевченко был доставлен в Петербург, зачислен в рядовые Оренбургского линейного батальона; через три месяца он очутился на месте ссылки в Орской крепости; ему было запрещено писать и рисовать. И тянулись долгие годы заключения со многими превратностями, которые зависели от людей, власть имеющих над ссыльными. Были времена, когда на Шевченко кара наказания ложилась всею своею тягостью и только его закаленная натура могла перенести этот гнет. Но были и послабления; между прочим, Шевченко был взят лейтенантом Бутаковым в экспедицию по исследованию берегов Аральского моря, для снятия видов; когда же труды Шевченка были представлены генералу, с ходатайством об облегчении участи ссыльного, – получилось совершенно обратное: из Петербурга пришел приказ перевести Шевченка на Азиатский берег Каспийского моря в отдаленное Новопетровское укрепление, со строгим приказом коменданту наблюдать, чтобы Шевченко не мог ничего ни писать, ни рисовать.
Буквально оторванный от живого мира, поэт загрустил. Должно быть, так ему было холодно кругом, так пусто, если у него могли вырваться такие слова в письме к Гулаку: «Родился и вырос в неволе, да и умру, кажется, солдатом!.. Какой-нибудь да был бы конец, а то, право, надоело»…
В конце 1852 г. в Новопетровской администрации произошла перемена: назначен новый комендант, майор Усков.
Жена Ускова еще в Оренбурге слышала о Шевченке и ехала в Новопетровск с мыслью принять участие в облегчении участи поэта. Шевченко не сразу, постепенно, но близко сошелся с семьей Усковых, где было двое маленьких детей, – это была одна из причин, притягивающих его к дому коменданта: Тарас Григорович страстно любил детей. Усковы полюбили Шевченка, как близкого родного; он стал как бы нераздельным членом их семьи.
С этого времени начались постепенные облегчения по службе. Шевченко вздохнул свободнее: его уже перестали без толку мучить «муштрою», да и жить он стал не в «смердячей казарме».
А в Петербурге друзья поэта не забывали хлопотать о нем; первое место между этими людьми занимала А. И. Толстая, супруга вице-президента академии; она сначала через художника Осипова, а потом сама лично, вела переписку с поэтом и, как только можно, ободряла его и поддерживала надежду на освобождение в его измученной душе.
В это время скончался Император Николай I и на престол вступил Император Александр ІІ. Шевченко с нетерпением ждал милостивого манифеста. Манифест появился, но в нем о Тарасе Григоровиче не было и помину. «И отчего же это я не был представлен к этой Высочайшей милости и вычеркнут из реестра мучеников? Преступление мое велико, но и наказание безгранично. К материальным страданиям 50-летнего солдата присоединилось страдание моральное: мне, которого вся жизнь была посвящена божественному искусству, было запрещено писать стихи и рисовать. Да, уже девять лет казнюсь я за грешное увлечение моей бестолковой молодости!.. О, спасите меня!..» – писал Тарас Григорович гр. Толстой в 1856 году.
С воцарением нового Императора многое изменилось в положении Шевченка; друзья поэта, прежде лишенные возможности не только переписываться с ним, но и сочувственно относиться к его положению, – теперь как будто ожили, стали посылать ему письма, деньги, и хлопоты об освобождении усилились. Особенно много полезного сделал в это время для поэта М. М. Лазаревский; он первый сообщил Тарасу Григоровичу весть о помиловании. «Поздравляю тебя с великою Царскою Милостью. По просьбе гр. Толстой и графа Толстого ты получаешь отставку и избираешь род жизни», – писал Лазаревский от 2 мая 1857 года.
Ожидая окончательной свободы, поэт составил план поездки; – ему хотелось побывать в Екатеринодаре, Крыму, Харькове, Полтаве, Киеве, в Вильно, но друзья поэта не одобряли этого плана. «Приезжай скорей в Петербург; на Украину не езди; об этом просит тебя графиня, и ты должен ее послушать» – писал ему Лазаревский.
Распоряжение об освобождении должно было пройти всю лестницу инстанций, начиная от шефа жандармов, министров и кончая ротным командиром. На это потребовалось бы немало времени.
«22 июля 1857 г. получилось официальное сообщение о моем освобождении (пишет Тарас Григорович гр. Ф. П. Толстому). В тот же день я просил коменданта дать мне пропуск через Астрахань до Петербурга; но он без воли высшего начальства не может этого сделать»…
Наконец Тарас Григорович уговорил Ускова дать ему пропуск до Петербурга, и 2 августа 1857 года, в 9 часов вечера, он оставил Новопетровское укрепление, пробывши в неволе 10 лет, 3 месяца и 27 дней.
После трехдневного плавания в рыбачьей лодке Шевченко прибыл в Астрахань.
В Астрахани Тарас Григорович задержался на несколько дней, дожидаясь парохода; 15 августа пришел из Нижнего пароход «Князь Пожарский» и простоял в Астрахани 7 дней, а 22-го отплыл снова в Нижний, увозя с собой Тараса Григоровича.
СПб.: в Тип. Е. Фишера, 1840. 114 с., гравированный фронтиспис. В п/к переплете эпохи. 17,5х11 см. Офорт в начале книги (народный певец - кобзарь с мальчиком-поводырем) выполнен по рисунку Василия Штернберга. «Кобзарь» (в современной орфографии укр. Кобзар; в орфографии прижизненных изданий Шевченко Кобзарь) - название сборника поэтических произведений Тараса Шевченко.Впервые «Кобзарь» был издан в 1840 году в Санкт-Петербурге при содействии Евгения Гребёнки. В сборник вошло восемь произведений: «Перебендя», «Катерина», «Тополь», «Мысль» («Зачем мне чёрные брови»), «К Основьяненко», «Иван Пидкова», «Тарасова ночь» и «Думы мои, думы мои, горе мне с вами», написанное специально для этого сборника, и являющееся как бы эпиграфом не только к этому изданию, но и ко всему творчеству Тараса Шевченко. После издания этого сборника кобзарём стали называть самого Тараса Шевченко. Даже сам Тарас Шевченко после своих некоторых повестей начал подписываться «Кобзарь Дармограй». Наиболее привлекательный вид, из всех прижизненных изданий, имел первый «Кобзарь»: хорошая бумага, удобный формат, чёткий шрифт. Примечательная особенность этого «Кобзаря» - офорт в начале книги по рисунку Василия Штернберга: народный певец - кобзарь с мальчиком-поводырем. Это не иллюстрация к отдельному произведению, а обобщённый образ кобзаря, в честь которого и назван сборник. Первое издание «Кобзаря» напечатано на ярыжке (орфографии украинского языка, основанной на русских правилах чтения); Шевченко придерживался её в большинстве рукописей и прижизненных изданий:
Бо васъ лыхо на свитъ на смихъ породыло,
Полывалы сліозы… чомъ не затопылы,
Не вынеслы въ море, не розмылы в поли?…
Не пыталы бъ, люды - що в мене болыть?
Второе издание вышло в 1844 году, пополненное поэмой "Гайдамаки". Выход первого «Кобзаря», даже урезанного царской цензурой, - событие огромного литературного и национального значения. В мире сохранилось всего несколько экземпляров «Кобзаря» Т.Г. Шевченко 1840 года. Национальное достояние незалежной Украины. Чрезвычайная редкость!


Библиографические источники:
1. Смирнов–Сокольский Н.П. Моя библиотека, Т.1, М., «Книга», 1969, № 1283;
 Кто не читал эти строки, написанные самим Тарасом Григорьевичем: Я – сын крепостного крестьянина, Григория Шевченка. Родился в 1814 году, февраля 25, в селе Кириловке, Звенигородского уезда, Киевской губернии, в имении одного помещика. Лишившись отца и матери на осьмом году жизни, приютился я в школе у приходского дьячка, в виде школяра-попихача. Эти школяры в отношении к дьячкам то же самое, что мальчики, отданные родителями или иною властью на выучку к ремесленникам. Права над ними мастера не имеют никаких определенных границ; они – полные рабы его. Все домашние работы и выполнение всевозможных прихотей самого хозяина и его домашних лежат на них безусловно. Предоставляю вашему воображению представить, чего мог требовать от меня дьячок, заметьте, горький пьяница, и что я должен был исполнять с рабской покорностью, не имея ни единого существа в мире, которое заботилось бы или могло заботиться о моем положении. Как бы то ни было, только в течение двухлетней тяжкой жизни в так называемой школе прошел я Граматку, Часловець и, наконец, псалтырь. Под конец моего школьного курса дьячок посылал меня читать, вместо себя, псалтырь по усопших крепостных душах и благоволил платить мне за то десятую копейку, в виде поощрения. Моя помощь доставляла суровому моему учителю возможность предаваться больше прежнего любимому своему занятию, вместе с своим другом Ионою Лимарем, так что, по возвращении от молитвословного подвига, я почти всегда находил их обоих мертвецки пьяными. Дьячок мой обходился жестоко не со мной одним, но и с другими, и мы все глубоко его ненавидели. Бестолковая его придирчивость сделала нас в отношении к нему лукавыми и мстительными. Мы надували его при всяком удобном случае и делали ему всевозможные пакости. Этот первый деспот, на которого я наткнулся в моей жизни, поселил во мне на всю жизнь глубокое отвращение и презрение ко всякому насилию одного человека над другим. Мое детское сердце было оскорблено этим исчадием деспотических семинарий миллион раз, и я кончил с ним так, как вообще окончивают выведенные из терпения беззащитные люди, – местью и бегством. Найдя его однажды бесчувственно пьяным, я употребил против него собственное его оружие – розги, и, насколько хватило детских сил, отплатил ему за все его жестокости. Из всех пожитков пьяницы-дьячка драгоценнейшей вещью казалась мне всегда какая-то книжечка с кунштиками, то есть гравированными картинками, вероятно, самой плохой работы. Я не счел грехом, или не устоял против искушения – похитить эту драгоценность и ночью бежал в местечко Лысянку. Там я нашел себе нового учителя в особе маляра-дьякона, который, как я вскоре убедился, очень мало отличался своими правилами и обычаями от моего первого наставника.
Кто не читал эти строки, написанные самим Тарасом Григорьевичем: Я – сын крепостного крестьянина, Григория Шевченка. Родился в 1814 году, февраля 25, в селе Кириловке, Звенигородского уезда, Киевской губернии, в имении одного помещика. Лишившись отца и матери на осьмом году жизни, приютился я в школе у приходского дьячка, в виде школяра-попихача. Эти школяры в отношении к дьячкам то же самое, что мальчики, отданные родителями или иною властью на выучку к ремесленникам. Права над ними мастера не имеют никаких определенных границ; они – полные рабы его. Все домашние работы и выполнение всевозможных прихотей самого хозяина и его домашних лежат на них безусловно. Предоставляю вашему воображению представить, чего мог требовать от меня дьячок, заметьте, горький пьяница, и что я должен был исполнять с рабской покорностью, не имея ни единого существа в мире, которое заботилось бы или могло заботиться о моем положении. Как бы то ни было, только в течение двухлетней тяжкой жизни в так называемой школе прошел я Граматку, Часловець и, наконец, псалтырь. Под конец моего школьного курса дьячок посылал меня читать, вместо себя, псалтырь по усопших крепостных душах и благоволил платить мне за то десятую копейку, в виде поощрения. Моя помощь доставляла суровому моему учителю возможность предаваться больше прежнего любимому своему занятию, вместе с своим другом Ионою Лимарем, так что, по возвращении от молитвословного подвига, я почти всегда находил их обоих мертвецки пьяными. Дьячок мой обходился жестоко не со мной одним, но и с другими, и мы все глубоко его ненавидели. Бестолковая его придирчивость сделала нас в отношении к нему лукавыми и мстительными. Мы надували его при всяком удобном случае и делали ему всевозможные пакости. Этот первый деспот, на которого я наткнулся в моей жизни, поселил во мне на всю жизнь глубокое отвращение и презрение ко всякому насилию одного человека над другим. Мое детское сердце было оскорблено этим исчадием деспотических семинарий миллион раз, и я кончил с ним так, как вообще окончивают выведенные из терпения беззащитные люди, – местью и бегством. Найдя его однажды бесчувственно пьяным, я употребил против него собственное его оружие – розги, и, насколько хватило детских сил, отплатил ему за все его жестокости. Из всех пожитков пьяницы-дьячка драгоценнейшей вещью казалась мне всегда какая-то книжечка с кунштиками, то есть гравированными картинками, вероятно, самой плохой работы. Я не счел грехом, или не устоял против искушения – похитить эту драгоценность и ночью бежал в местечко Лысянку. Там я нашел себе нового учителя в особе маляра-дьякона, который, как я вскоре убедился, очень мало отличался своими правилами и обычаями от моего первого наставника.  Три дня я терпеливо таскал на гору ведрами воду из речки Тикача и растирал на железном листе краску медянку. На четвертый день терпенье мне изменило, и я бежал в село Тарасовку к дьячку-маляру, славившемуся в околотке изображением великомученика Никиты и Ивана Воина. К сему-то Апеллесу обратился я, с твердою решимостью перенести все испытания, как думал я тогда, неразлучные со всякою наукою. Усвоить себе его великое искусство, хоть в самой малой степени, желал я страстно. Но – увы! – Апеллес посмотрел внимательно на мою левую руку и отказал мне наотрез. Он объявил мне, к моему крайнему огорчению, что во мне нет способности ни к чему, ни даже к шевству или бондарству. Потеряв всякую надежду сделаться когда-нибудь хоть посредственным маляром, с сокрушенным сердцем возвратился я в родное село. У меня была в виду скромная участь, которой мое воображение придавало, однако ж, какую-то простодушную прелесть: я хотел сделаться, как выражается Гомер, "пастырем стад непорочным" с тем, чтобы, хотя за громадскою ватагою, читать свою любезную краденую книжку с кунштиками. Но и это не удалось мне. Помещику, только что наследовавшему достояние отца своего, понадобился расторопный мальчик, и оборванный школяр-бродяга попал прямо в тиковую куртку, в такие же шаровары и, наконец, – в комнатные козачки. Изобретение комнатных козачков принадлежит цивилизаторам заднепровской Украины – полякам; помещики иных национальностей перенимали и перенимают у них козачков, как выдумку, неоспоримо умную. В краю некогда казацком сделать козака ручным с самого детства, – это то же самое, что в Лапландии покорить произволу человека быстроногого оленя... Польские помещики былого времени содержали козачков, кроме лакейства, еще в качестве музыкантов и танцоров. Козачки играли для панской потехи веселые двусмысленные песенки, сочиненные народною музою с горя под пьяную руку, и пускались перед панами, как говорят поляки, сюды-туды-навприсюды. Новейшие представители вельможной шляхты, с чувством просвещенной гордости, называют это покровительством украинской народности, которым-де всегда отличались их предки. Мой помещик, в качестве русского немца, смотрел на козачка более практическим взглядом и, покровительствуя моей народности на свой манер, вменил мне в обязанность только молчание и неподвижность в уголку передней, пока не раздастся его голос, повелевающий подать стоящую тут же возле него трубку или налить у него перед носом стакан воды. По врожденной мне продерзости характера, я нарушал барский наказ, напевая чуть слышным голосом гайдамацкие унылые песни и срисовывая украдкою картины суздальской школы, украшавшие панские покои. Рисовал я карандашом, который – признаюсь в этом без всякой совести – украл у конторщика. Барин мой был человек деятельный: он беспрестанно ездил то в Киев, то в Вильно, то в Петербург и таскал за собою в обозе меня, для сиденья в передней, подаванья трубки и тому подобных надобностей. Нельзя сказать, чтоб я тяготился своим тогдашним положением: оно только теперь приводит меня в ужас и кажется мне каким-то диким и несвязным сном. Вероятно, многие из русского народа посмотрят когда-то по-моему на свое прошедшее. Странствуя с своим барином с одного постоялого двора на другой, я пользовался всяким удобным случаем украсть со стены лубочную картинку и составил себе таким образом драгоценную коллекцию. Особенными моими любимцами были исторические герои, как-то: Соловей-разбойник, Кульнев, Кутузов, козак Платов и другие. Впрочем, не жажда стяжания управляла мною, но непреодолимое желание срисовать с них как только возможно верные копии. Однажды, во время пребывания нашего в Вильно, в 1829 году, декабря 6, пан и пани уехали на бал в так называемые ресурсы (дворянское собрание), по случаю тезоименитства в бозе почившего императора Николая Павловича. В доме все успокоилось, уснуло. Я зажег свечку в уединенной комнате, развернул свои краденые сокровища и, выбрав из них козака Платова, принялся с благоговением копировать. Время летело для меня незаметно. Уже я добрался до маленьких козачков, гарцующих около дюжих копыт генеральского коня, как позади меня отворилась дверь, и вошел мой помещик, возвратившийся с бала. Он с остервенением выдрал меня за уши и надавал пощечин – не за мое искусство, нет! (на искусство он не обратил внимания), – а за то, что я мог бы сжечь не только дом, но и город. На другой день он велел кучеру Сидорке выпороть меня хорошенько, что и было исполнено с достодолжным усердием. В 1832 году мне исполнилось восемнадцать лет, и так как надежды моего помещика на мою лакейскую расторопность не оправдались, то он, вняв неотступной моей просьбе, законтрактовал меня на четыре года разных живописных дел цеховому мастеру, некоему Ширяеву, в С.-Петербурге. Ширяев соединял в себе все качества дьячка-спартанца, дьякона-маляра и другого дьячка-хиромантика; но, несмотря на весь гнет тройственного его гения, я, в светлые весенние ночи, бегал в Летний сад рисовать со статуй, украшающих сие прямолинейное создание Петра. В один из таких сеансов познакомился я с художником Иваном Максимовичем Сошенком, с которым и до сих пор нахожусь в самых искренних братских отношениях. По совету Сошенка, я начал пробовать акварелью портреты с натуры. Для многочисленных, грязных проб терпеливо служил мне моделью другой мой земляк и друг, козак Иван Ничипоренко, дворовый человек нашего помещика. Однажды помещик увидел у Ничипоренко мою работу, и она ему до того понравилась, что он начал употреблять меня для снятия портретов с любимых своих любовниц, за которые иногда награждал меня целым рублем серебра. В 1837 году Сошенко представил меня конференц-секретарю Академии художеств, В. И. Григоровичу, с просьбою – освободить меня от моей жалкой участи. Григорович передал его просьбу В. А. Жуковскому. Тот сторговался предварительно с моим помещиком и просил К. П. Брюллова написать с него, Жуковского, портрет, с целью разыграть его в частной лотерее. Великий Брюллов тотчас согласился, и вскоре портрет Жуковского был у него готов. Жуковский, с помощью графа М. Ю. Виельгорского, устроил лотерею в 2500 рублей ассигнациями, и этой ценою куплена была моя свобода, в 1838 году, апреля 22. С того же дня начал я посещать классы Академии художеств и вскоре сделался одним из любимых учеников-товарищей Брюллова. В 1844 году удостоился я звания свободного художника. О первых литературных моих опытах скажу только, что они начались в том же Летнем саду, в светлые безлунные ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращенного жизнью в школе, в помещичьей передней, на постоялых дворах и в городских квартирах; но, когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой стороне. Из первых, слабых моих опытов, написанных в Летнем саду, напечатана только одна баллада Причинна. Как и когда писались последовавшие за нею стихотворения, об этом теперь я не чувствую охоты распространяться. Краткая история моей жизни, набросанная мною в этом нестройном рассказе в угождение вам, сказать правду, обошлась мне дороже, чем я думал. Сколько лет потерянных! сколько цветов увядших! И что же я купил у судьбы своими усилиями – не погибнуть? Едва ли не одно страшное уразумение своего прошедшего. Оно ужасно, оно тем более для меня ужасно, что мои родные братья и сестра, о которых мне тяжело было вспоминать в своем рассказе, до сих пор – крепостные. Да, милостивый государь, они крепостные до сих пор!
Три дня я терпеливо таскал на гору ведрами воду из речки Тикача и растирал на железном листе краску медянку. На четвертый день терпенье мне изменило, и я бежал в село Тарасовку к дьячку-маляру, славившемуся в околотке изображением великомученика Никиты и Ивана Воина. К сему-то Апеллесу обратился я, с твердою решимостью перенести все испытания, как думал я тогда, неразлучные со всякою наукою. Усвоить себе его великое искусство, хоть в самой малой степени, желал я страстно. Но – увы! – Апеллес посмотрел внимательно на мою левую руку и отказал мне наотрез. Он объявил мне, к моему крайнему огорчению, что во мне нет способности ни к чему, ни даже к шевству или бондарству. Потеряв всякую надежду сделаться когда-нибудь хоть посредственным маляром, с сокрушенным сердцем возвратился я в родное село. У меня была в виду скромная участь, которой мое воображение придавало, однако ж, какую-то простодушную прелесть: я хотел сделаться, как выражается Гомер, "пастырем стад непорочным" с тем, чтобы, хотя за громадскою ватагою, читать свою любезную краденую книжку с кунштиками. Но и это не удалось мне. Помещику, только что наследовавшему достояние отца своего, понадобился расторопный мальчик, и оборванный школяр-бродяга попал прямо в тиковую куртку, в такие же шаровары и, наконец, – в комнатные козачки. Изобретение комнатных козачков принадлежит цивилизаторам заднепровской Украины – полякам; помещики иных национальностей перенимали и перенимают у них козачков, как выдумку, неоспоримо умную. В краю некогда казацком сделать козака ручным с самого детства, – это то же самое, что в Лапландии покорить произволу человека быстроногого оленя... Польские помещики былого времени содержали козачков, кроме лакейства, еще в качестве музыкантов и танцоров. Козачки играли для панской потехи веселые двусмысленные песенки, сочиненные народною музою с горя под пьяную руку, и пускались перед панами, как говорят поляки, сюды-туды-навприсюды. Новейшие представители вельможной шляхты, с чувством просвещенной гордости, называют это покровительством украинской народности, которым-де всегда отличались их предки. Мой помещик, в качестве русского немца, смотрел на козачка более практическим взглядом и, покровительствуя моей народности на свой манер, вменил мне в обязанность только молчание и неподвижность в уголку передней, пока не раздастся его голос, повелевающий подать стоящую тут же возле него трубку или налить у него перед носом стакан воды. По врожденной мне продерзости характера, я нарушал барский наказ, напевая чуть слышным голосом гайдамацкие унылые песни и срисовывая украдкою картины суздальской школы, украшавшие панские покои. Рисовал я карандашом, который – признаюсь в этом без всякой совести – украл у конторщика. Барин мой был человек деятельный: он беспрестанно ездил то в Киев, то в Вильно, то в Петербург и таскал за собою в обозе меня, для сиденья в передней, подаванья трубки и тому подобных надобностей. Нельзя сказать, чтоб я тяготился своим тогдашним положением: оно только теперь приводит меня в ужас и кажется мне каким-то диким и несвязным сном. Вероятно, многие из русского народа посмотрят когда-то по-моему на свое прошедшее. Странствуя с своим барином с одного постоялого двора на другой, я пользовался всяким удобным случаем украсть со стены лубочную картинку и составил себе таким образом драгоценную коллекцию. Особенными моими любимцами были исторические герои, как-то: Соловей-разбойник, Кульнев, Кутузов, козак Платов и другие. Впрочем, не жажда стяжания управляла мною, но непреодолимое желание срисовать с них как только возможно верные копии. Однажды, во время пребывания нашего в Вильно, в 1829 году, декабря 6, пан и пани уехали на бал в так называемые ресурсы (дворянское собрание), по случаю тезоименитства в бозе почившего императора Николая Павловича. В доме все успокоилось, уснуло. Я зажег свечку в уединенной комнате, развернул свои краденые сокровища и, выбрав из них козака Платова, принялся с благоговением копировать. Время летело для меня незаметно. Уже я добрался до маленьких козачков, гарцующих около дюжих копыт генеральского коня, как позади меня отворилась дверь, и вошел мой помещик, возвратившийся с бала. Он с остервенением выдрал меня за уши и надавал пощечин – не за мое искусство, нет! (на искусство он не обратил внимания), – а за то, что я мог бы сжечь не только дом, но и город. На другой день он велел кучеру Сидорке выпороть меня хорошенько, что и было исполнено с достодолжным усердием. В 1832 году мне исполнилось восемнадцать лет, и так как надежды моего помещика на мою лакейскую расторопность не оправдались, то он, вняв неотступной моей просьбе, законтрактовал меня на четыре года разных живописных дел цеховому мастеру, некоему Ширяеву, в С.-Петербурге. Ширяев соединял в себе все качества дьячка-спартанца, дьякона-маляра и другого дьячка-хиромантика; но, несмотря на весь гнет тройственного его гения, я, в светлые весенние ночи, бегал в Летний сад рисовать со статуй, украшающих сие прямолинейное создание Петра. В один из таких сеансов познакомился я с художником Иваном Максимовичем Сошенком, с которым и до сих пор нахожусь в самых искренних братских отношениях. По совету Сошенка, я начал пробовать акварелью портреты с натуры. Для многочисленных, грязных проб терпеливо служил мне моделью другой мой земляк и друг, козак Иван Ничипоренко, дворовый человек нашего помещика. Однажды помещик увидел у Ничипоренко мою работу, и она ему до того понравилась, что он начал употреблять меня для снятия портретов с любимых своих любовниц, за которые иногда награждал меня целым рублем серебра. В 1837 году Сошенко представил меня конференц-секретарю Академии художеств, В. И. Григоровичу, с просьбою – освободить меня от моей жалкой участи. Григорович передал его просьбу В. А. Жуковскому. Тот сторговался предварительно с моим помещиком и просил К. П. Брюллова написать с него, Жуковского, портрет, с целью разыграть его в частной лотерее. Великий Брюллов тотчас согласился, и вскоре портрет Жуковского был у него готов. Жуковский, с помощью графа М. Ю. Виельгорского, устроил лотерею в 2500 рублей ассигнациями, и этой ценою куплена была моя свобода, в 1838 году, апреля 22. С того же дня начал я посещать классы Академии художеств и вскоре сделался одним из любимых учеников-товарищей Брюллова. В 1844 году удостоился я звания свободного художника. О первых литературных моих опытах скажу только, что они начались в том же Летнем саду, в светлые безлунные ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращенного жизнью в школе, в помещичьей передней, на постоялых дворах и в городских квартирах; но, когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой стороне. Из первых, слабых моих опытов, написанных в Летнем саду, напечатана только одна баллада Причинна. Как и когда писались последовавшие за нею стихотворения, об этом теперь я не чувствую охоты распространяться. Краткая история моей жизни, набросанная мною в этом нестройном рассказе в угождение вам, сказать правду, обошлась мне дороже, чем я думал. Сколько лет потерянных! сколько цветов увядших! И что же я купил у судьбы своими усилиями – не погибнуть? Едва ли не одно страшное уразумение своего прошедшего. Оно ужасно, оно тем более для меня ужасно, что мои родные братья и сестра, о которых мне тяжело было вспоминать в своем рассказе, до сих пор – крепостные. Да, милостивый государь, они крепостные до сих пор!
 После четырнадцатилетнего пребывания за границей приехал в Петербург Карл Павлович Брюллов, уже предшествуемый славой своей «Помпеи». Ореол, его окружавший, был в это время особенно ослепителен: Брюллова не называли иначе, как «Карл Великий». «Последний день Помпеи» Вальтер Скотт назвал «эпопеей», Гоголь - «полным, всемирным созданием» искусства; перед Брюлловым преклонялись Жуковский и Глинка, Белинский и Герцен; Пушкин посвящал ему стихи и на коленях вымаливал у художника один из его рисунков.
После четырнадцатилетнего пребывания за границей приехал в Петербург Карл Павлович Брюллов, уже предшествуемый славой своей «Помпеи». Ореол, его окружавший, был в это время особенно ослепителен: Брюллова не называли иначе, как «Карл Великий». «Последний день Помпеи» Вальтер Скотт назвал «эпопеей», Гоголь - «полным, всемирным созданием» искусства; перед Брюлловым преклонялись Жуковский и Глинка, Белинский и Герцен; Пушкин посвящал ему стихи и на коленях вымаливал у художника один из его рисунков.
Чудо-богатырь! - говорил о Брюллове Шевченко.
Вся академия была фанатически увлечена Брюлловым, ни о чем больше не говорили, как о Брюллове. Рассказывали друг другу, как после каждого нового портрета или картины Брюллова конференц-секретарь академии Василий Иванович Григорович просил у художника позволения взять новое его произведение к себе на квартиру, запирался на ключ и двое суток просиживал перед ним, не отрывая от него глаз. Всему этому добродушно верили и сам рассказчик и его слушатели. Когда Брюллов возвратился в Россию, в петербургских кругах в среде деятелей искусства и литературы уже говорили о молодом и одаренном крепостном юноше, которому необходимо помочь. Музыкант и композитор Михаил Юрьевич Виельгорский, друг Пушкина и Глинки, Жуковского и Батюшкова, Гоголя и Грибоедова, познакомившись с молодым Шевченко, был покорен его талантливостью. В доме Виельгорского на Михайловской площади происходили музыкальные собрания, которые посещали Глинка, Брюллов. Однажды Брюллов зашел на квартиру к Сошенко. В это время у Ивана Максимовича находился Тарас, и великий художник сразу обратил внимание на его умное лицо.
Это натурщик или слуга? - спросил Брюллов, когда Тарас вышел.
Ни то, ни другое, - ответил Иван Максимович, рассказав тут же историю юноши.
Барбаризм! - прошептал Брюллов и задумался, потом попросил показать рисунки Тараса. Долго рассматривал срисованную Шевченко маску Лаокоона, поднял голову и спросил:
Только спустя некоторое время Шевченко узнал, что гостем Сошенко был не кто иной, как «Великий Карл».
Зачем же вы мне не сказали? - огорчился Тарас.
Я хоть бы взглянул на него. А то я думал, так просто какой-нибудь господин! Не зайдет ли он к вам еще когда-нибудь? Боже мой, боже мой! Как бы мне на него хоть издали посмотреть! Знаете, я, когда иду по улице, все о нем думаю и смотрю на проходящих, ищу глазами его между ними...
В одно прекрасное утро Сошенко, наконец, представил Тараса Брюллову. Друзья пришли в квартиру художника, в его любимую «красную комнату», с красным диваном и красными занавесками, сквозь которые светило яркое солнце. Стены были увешаны оружием и восточными украшениями. Карл Павлович встретил их в красном халате. Просмотрел принесенные Тарасом рисунки и ласково их похвалил. Как-то Сошенко, явившись к Брюллову, застал у него в мастерской Жуковского и Виельгорского. Увидев Ивана Максимовича, Брюллов словно что-то вспомнил, улыбнулся и увел Жуковского в другую комнату. Через полчаса они снова вышли в мастерскую, и Брюллов приблизился к Сошенко.
Фундамент есть, - сказал он, улыбаясь. И оба хорошо понимали, о чем идет речь: об освобождении Шевченко.
И вот однажды зимой 1836/37 года Брюллов отправился прямо на квартиру к Энгельгардту. Вечером в тот же день Сошенко зашел к Брюллову и застал его в сильном раздражении.
Ну, что Энгельгардт? - спросил Сошенко.
Это самая крупная свинья в торжковских туфлях! - воскликнул гневно Брюллов.
В чем дело? - продолжал допытываться Сошенко.
Дело в том, что вы завтра сходите к этой амфибии, чтобы он назначил цену вашему ученику.
Карл Павлович не мог сдержать негодования. Он долго Молча ходил по комнате, потом остановился, сплюнул:
Вандализм!
На следующий день Сошенко предстояло отправиться к Энгельгардту за окончательными условиями выкупа Тараса. Однако Ивана Максимовича одолевали сомнения:
Я видел немало на своем веку разного разбора русских помещиков: и богатых, и средней руки, и хуторян. Видел даже таких, которые постоянно живут во Франции и в Англии и с восторгом говорят о благосостоянии тамошних фермеров и мужичков, а у себя дома последнюю овцу у мужика грабят. Видел я много оригиналов в этом роде. Но такого оригинала русского человека, который бы грубо принял у себя в доме Карла Брюллова, не видал.
В конце концов Сошенко направился к старику Венецианову за помощью. Ведь Венецианов, организовавший когда-то у себя художественную школу специально для талантов из народа, не раз имел дело с помещиками-рабовладельцами. Венецианова Иван Максимович, несмотря на ранний утренний час, застал за работой: он срисовывал тушью собственную картину «Мать и дитя» для альманаха «Утренняя заря». Художник был увлечен, но стоило Сошенко сообщить о цели визита, как Венецианов отложил все и стал одеваться. Вернувшись домой, Иван Максимович застал у себя Тараса. Он явился, чтобы показать свою новую работу: довольно сложную композицию из античной жизни, навеянную чтением трагедии Озерова «Эдип в Афинах». Шевченко явно волновался, и руки у него дрожали, когда он развертывал и подавал Сошенко рисунок.
Не успел пером обрисовать... - словно извиняясь, проговорил он при этом.
 Смело и лаконично была решена расстановка трех фигур, изображенных на рисунке: Эдип, Антигона, а поодаль Полиник. Сошенко серьезно и сердечно поздравил друга с успехом. Тарас зарделся, как девушка. Ивана Максимовича очень трогала в Тарасе эта скромность, которая могла подчас показаться робостью. Он думал так: «Это верный признак таланта!» Сошенко посоветовал Тарасу читать исторические труды и дал несколько томов «Истории древней Греции, поселений и завоеваний оной, от первобытного состояния сей страны до разделения Македонского государства», сочинения Джона Гиллиса в переводе с английского Алексея Огинского. Тарас схватил книги. Навсегда осталась у него эта страстная, неутолимая любовь к книге; еще только взяв в руки томик в туго раскрывающемся кожаном переплете или неразрезанную, в тонкой розоватой обложке книжку журнала, он уже испытывал волнение, словно открывалась перед ним дверь в неведомый мир. Одни книги доставляли ему яркую радость, другие вызывали боль или негодование, третьи заставляли глубоко задуматься, четвертые он с презрением бросал, награждая авторов без всяких обиняков самыми что ни на есть резкими эпитетами... Шевченко рано научился самостоятельно оценивать прочитанное, не считаясь ни с «общепринятым» мнением, ни с суждениями «авторитетов». Может быть, он иногда - на первых порах - и ошибался при этом, но зато свою оценку всегда вынашивал сам, поверяя ее собственным умом, собственным жизненным опытом.
Смело и лаконично была решена расстановка трех фигур, изображенных на рисунке: Эдип, Антигона, а поодаль Полиник. Сошенко серьезно и сердечно поздравил друга с успехом. Тарас зарделся, как девушка. Ивана Максимовича очень трогала в Тарасе эта скромность, которая могла подчас показаться робостью. Он думал так: «Это верный признак таланта!» Сошенко посоветовал Тарасу читать исторические труды и дал несколько томов «Истории древней Греции, поселений и завоеваний оной, от первобытного состояния сей страны до разделения Македонского государства», сочинения Джона Гиллиса в переводе с английского Алексея Огинского. Тарас схватил книги. Навсегда осталась у него эта страстная, неутолимая любовь к книге; еще только взяв в руки томик в туго раскрывающемся кожаном переплете или неразрезанную, в тонкой розоватой обложке книжку журнала, он уже испытывал волнение, словно открывалась перед ним дверь в неведомый мир. Одни книги доставляли ему яркую радость, другие вызывали боль или негодование, третьи заставляли глубоко задуматься, четвертые он с презрением бросал, награждая авторов без всяких обиняков самыми что ни на есть резкими эпитетами... Шевченко рано научился самостоятельно оценивать прочитанное, не считаясь ни с «общепринятым» мнением, ни с суждениями «авторитетов». Может быть, он иногда - на первых порах - и ошибался при этом, но зато свою оценку всегда вынашивал сам, поверяя ее собственным умом, собственным жизненным опытом.
Да, вы знаете... - вдруг сказал, улыбаясь, Тарас.
Что? - спросил Сошенко.
Когда я сказал Ширяеву, что вы водили меня к Карлу Павловичу и показывали ему мои рисунки и что Карл Павлович... да, впрочем, я и сам никакие могу поверить... точно сон какой-то...
Хозяин твой не верит, что Брюллов похвалил твои рисунки?
Да он вообще не верит, что я и видел Карла Павловича...
Шевченко хотел продолжать, но в эту минуту вошел в комнату Алексей Гаврилович Венецианов и, добродушно улыбаясь, сказал:
Ну, ничего особенного! Помещик как помещик! Правда, он меня с час продержал в передней,- да это уж у них обычай такой. А обычай - тот же закон... Принял меня в своем кабинете. Вот кабинет его мне не понравился: все и роскошно, и дорого, и великолепно, да ведь безвкусное это великолепие!
Ну, а как же наше-то дело? - нетерпеливо перебил Сошенко.
А у Тараса от напряженного ожидания пересохло во рту.
Сначала я заговорил с ним о просвещении вообще и о филантропии в особенности, - продолжал спокойно Венецианов, все с той же добродушной усмешкой.
Помещик долго молча меня слушал, а потом перебил: «Да вы скажите прямо, чего вы с вашим Брюлловым от меня хотите? Знаете, Брюллов меня вчера просто одолжил, - ведь это настоящий дикарь!» - и при этом стал громко хохотать, так что я было сконфузился, но вскоре оправился и довольно ясно и хладнокровно разъяснил ему все дело. «Вот так бы давно и сказали! - самодовольно заявил мне господин Энгельгардт. - Это совершенно понятно. А то - филантропия! Какая же тут может быть филантропия? Мне нужны деньги - и больше ничего. Хотите знать настоящую цену? Так ли я вас понял?» Я и подтвердил, что действительно он понял меня довольно верно. «Ну, так вот вам моя решительная цена: две с половиной тысячи рублей. Согласны? Он, Тарас мой, человек ремесленный, при доме необходимый...» Тут он собирался было еще что-то мне говорить, да я только отвечал, что согласен, поскорее откланялся и вышел.
И вот - перед вами! - закончил старик, улыбаясь, хотя было видно, что тяжело осела у него в душе горечь от неприятного визита.

В.А. Жуковский. Портрет работы К.П. Брюллова.
Возникла новая трудность: где достать требуемые Энгельгардтом две с половиной тысячи рублей? Это была цена неслыханно высокая по тем временам. Общество поощрения художников, помогавшее материально Шевченко, не могло отпустить из своих скудных средств такую крупную сумму. В феврале 1837 года комитет общества в своем постановлении записал: «По случаю представления о пособиях молодым художникам Борисову, Петровскому, Нерсесову, Шевченко... положено: суждение о них отложить до особого собрания комитета, в котором имеют быть определены на будущее время правила, касательно вспоможений, оказываемых художникам». За дело взялись Брюллов и Жуковский. Жуковский знал в это время уже не только рисунки, а и стихи Тараса Шевченко. Было решено, что Брюллов напишет давно им задуманный портрет Жуковского, портрет будет разыгран в лотерею; за эти деньги и получит Тарас долгожданную свободу. В среду 31 марта 1837 года, спустя два месяца после трагической гибели Пушкина, на квартире у Брюллова собрались художники, литераторы, музыканты, чтобы почтить память великого русского поэта. Краевский читал неопубликованные его произведения: «Русалку», «Каменного гостя», «Тазита». На этом вечере Брюллов сказал Мокрицкому, что дело освобождения Шевченко двинулось.
«После обеда призвал меня Брюллов. У него был Жуковский... Дело наше, кажется, примет хороший ход... Сегодня начат портрет Жуковского».
Томительно тянулись дни и месяцы в ожидании свободы. Ширяев по-прежнему очень неохотно позволял Тарасу посещать Сошенко, Брюллова, рисовальные классы. Приходилось пускаться на разные уловки. Когда Сошенко, например, приходил к Ширяеву с просьбой отпустить Тараса на месяц, заменив его в артели обыкновенным маляром, подрядчик отвечал:
Почему не заменить? Можно. Пока еще живописные работы не начались. А потом уж извините. Он у меня рисовальщик. А рисовальщик, вы сами знаете, что значит в нашем художестве. Да вы как полагаете? В состоянии ли он будет поставить за себя работника?
Я вам поставлю работника, - настаивал Сошенко.
Вы? - искренне удивлялся Василий Григорьевич. - Да из какой корысти вы-то хлопочете?
Так, от нечего делать. Для собственного удовольствия... - спокойно отвечал Иван Максимович.
Сошенко взялся ради Тараса нарисовать портрет Ширяева. При этом произошел следующий разговор.
По скольку вы берете за портрет? - поинтересовался Ширяев.
Каков портрет, - отвечал Сошенко. - И каков давалец. Вот с вас, например, я более ста рублей серебра не возьму.
Ну, нет, батюшка, с кого угодно берите по сто целковых, а с нас кабы десяточку взяли, так это еще куда ни шло.
Так лучше же мы сделаем вот как, - протягивая Ширяеву руку, заключил Сошенко. - Отпустите мне месяца на два вашего рисовальщика - вот вам и портрет.
На два? - проговорил Ширяев в раздумье,- На два много, не могу. На месяц можно.
Ну, хоть на месяц. Согласен. - И они, как барышники, ударили по рукам.

Нищий на кладбище. Офорт Т.Г. Шевченко.
Портрет Ширяева был исправно написан Иваном Максимовичем в оплату месячного отпуска Тараса. Подневольное положение становилось настолько нестерпимым, что Шевченко даже покушался на самоубийство. Лишь теплое, участливое отношение друзей спасло юношу, и Тарас долго хранил письмо Жуковского, удержавшее его от безумного шага. Все эти переживания подломили здоровье. Тарас опасно заболел. Его поместили в больницу при приюте святой Марии Магдалины, возле Тучкова моста, и восемь дней он был в беспамятстве, между жизнью и смертью. Больницу часто посещали друзья. И всякий раз узнавали от сиделки, что Тарас все еще горит огнем.
Что, не приходит в себя?
Нет, батюшка.
Бредит?
Только одно повторяет: красный… красный...
И ничего больше?
Ничего, батюшка.
Брюллов, волнуясь, постоянно спрашивал у Сошенко, Мокрицкого:
- Ну как, Тарасу лучше?
Начал приходить в себя, - радостно сообщил, наконец, Сошенко.

Лунная ночь на Аральском море. Рисунок Т.Г. Шевченко.
Молодой, сильный организм одолел тяжелую болезнь, против которой в те времена медицина не знала никаких радикальных средств. Несмотря на запрещение врача беспокоить больного, беседы с Сошенко, Мокрицким волновали подчас Тараса до слез. Ему рисовалась картина возвращения к Ширяеву - и он, ослабленный болезнью, начинал плакать, как ребенок... Общество поощрения художников в эти дни сколько возможно помогало Тарасу. В отчете расходов за 1837 год сохранилась такая запись: «Мая 30. Пансионеру Алексееву и ученику Шевченко на лекарство - 50 рублей». Больной уже передвигался, придерживаясь за койку. Он просил Сошенко:
Иван Максимович спросил, можно ли больному принести книги.
Не приносите, - возразил врач. - Тем более чтения серьезного.

А.Е. Ускова. Портрет работы Т.Г. Шевченко.
Тогда Сошенко стал здесь же, в больничной палате, давать Тарасу уроки линейной перспективы, вооружившись циркулем, треугольником и чертежами курса перспективы профессора Воробьева. Работа Брюллова над портретом Жуковского была закончена. Однако ряд проволочек затягивал лотерею. Жуковский откладывал со дня на день свой отъезд за границу и торопил Юлию Федоровну Баранову, которая должна была внести часть денег за лотерейные билеты:
«Историческое обозрение благодетельных поступков Юлии Федоровны и разных других обстоятельств, курьезных происшествий и особенных всяких штучек. Сочинение Матвея. Это г. Шевченко. Он говорит про себя: хотелось бы мне написать картину, а господин велит мести горницу. У него в одной руке кисть, а в другой помело, и он в большом затруднении. Над ним в облаках Юлия Федоровна. Это Брюллов пишет портрет с Жуковского. На обоих лавровые венки. Вдали Шевченко метет горницу. В облаках Юлия Федоровна. Она думает про себя: какой этот Матвей красавец. А Василий Андреич, слыша это, благодарит внутренне Юлию Федоровну и говорит про себя: я, пожалуй, готов быть и Максимом, и Демьяном, и Трифоном, только бы нам выкупить Шевченко. «Не беспокойся, Матюша, - говорит из облаков Юлия Федоровна, - мы выкупим Шевченко».
А Шевченко знай себе метет горницу. Но это в последний раз. Жуковский в виде Судьбы провозглашает выигрышный билет. В одной руке его карта; а в другой отпускная Шевченко. Вдали портрет Жуковского... Шевченко вырос от радости и играет на скрипке качучу... Юлия Федоровна сошла с облаков, в которых осталось одно только сияние. В ее руке мешок с деньгами (2500 рублей)… Примечание. Юлия Федоровна оттого так спешит собрать деньги, что Матвей скоро поедет за границу и должен прежде отъезда своего кончить это дело... Это Шевченко и Жуковский; оба кувыркаются от радости. А Юлия Федоровна благословляет их из облаков». Лотерея, в которой был разыгран портрет, состоялась в субботу, 16 апреля 1838 года, в доме у Виельгорского, после концерта, на котором присутствовал весь «свет». Деньги, наконец, были собраны, вручены помещику, и подписана «вольная» Шевченко:
«Тысяча восемьсот тридцать восьмого года апреля двадцать второго дня, я нижеподписавшийся уволенный от службы гвардии полковник Павел Васильев сын Энгельгардт отпустил вечно на волю крепостного моего человека Тараса Григорьева сына Шевченко, доставшегося мне по наследству после покойного родителя моего действительного тайного советника Василия Васильевича Энгельгардта, записанного по ревизии Киевской губернии, Звенигородского уезда, в селе Кириловке, до которого человека мне, Энгельгардту, и наследникам моим впредь дела нет и ни во что не вступаться, и волен он, Шевченко, избрать себе род жизни, какой пожелает. К сей отпускной уволенный от службы гвардии полковник Павел Васильев сын Энгельгардт - руку приложил. Свидетельствую подпись руки и отпускную, данную полковником Энгельгардтом его крепостному человеку Тарасу Григорьеву сыну Шевченко, действительный статский советник и кавалер Василий Андреев сын Жуковский. В том же свидетельствую и подписуюсь профессор восьмого класса К. Брюллов. В том же свидетельствую и подписуюсь гофмейстер и тайный советник и кавалер граф Михаил Виельгорский».
Отпускная была подписана, но Шевченко об этом ничего «е знал. В воскресенье, 24 апреля, он получил приглашение прийти на следующий день к Брюллову. 25 апреля 1838 года в 3 часа дня в доме Брюллова собрались, кроме самого Брюллова, Жуковский, Григорович, Виельгорский. Присутствовал при этом также Мокрицкий. Когда пришел Шевченко, Василий Андреевич Жуковский торжественно вручил ему отпускной документ. «Приятно было видеть эту сцену!»- записал в этот день в своем дневнике Аполлон Мокрицкий. Здесь же, у Брюллова, все и отобедали, отмечая радостное событие. После обеда Шевченко, схватив «вольную», бросился в подвал Сошенко. Иван Максимович, отворив на улицу окно, приходившееся вровень с тротуаром, писал «Евангелиста Луку». Вдруг в комнату, прямо через окно, свалился, точно с неба, Тарас. Он, опрокинув «Луку», бросился в объятия Сошенко, чуть не сшиб его при этом с ног и громко кричал:
Свобода! Свобода!

"Трио" - Шевченко, Залеский и Турно. Рисунок Т.Г. Шевченко.
Тотчас по получении отпускной Шевченко поступает в Академию художеств в качестве ученика профессора Брюллова. Первое время молодой художник совершенствовался в рисунке и композиции. Он исполнил много акварельных рисунков и портретов, привлекающих внимание четкостью и чистотой линий и композиции. И скоро его успехи были отмечены. Уже на третном экзамене (производившемся в конце каждой трети учебного года) весной 1839 года Шевченко получил серебряную медаль за рисунок с. натуры. Он состоял в это время пансионером Общества поощрения художников, жил в общежитии общества, но целые дни проводил у Брюллова, а часто оставался у него и ночевать. Личная библиотека Брюллова была в полном распоряжении Тараса. Он до зари зачитывался Гомером и Шекспиром, Вальтером Скоттом и Фенимором Купером, поэтическими созданиями Данте и Гёте... В это время Шевченко заканчивает большие поэмы: «Катерина» (которую посвятил В. А. Жуковскому-«в память 22 апреля 1838 года», то есть дня подписания «отпускной») и «Гайдамаки» (посвящена В. И. Григоровичу, тоже «в память 22 апреля 1838 года»). Наконец Шевченко решается издать сборник своих стихотворений, дав ему название «Кобзарь». Вышел в свет «Кобзарь» в начале апреля 1840 года. Печать встретила его восторженно. Белинский в «Отечественных записках» писал:
«Имя г. Шевченко, если не ошибаемся, в первый раз еще появляется в русской литературе, и нам тем приятнее было встретить его на книжке, в полной мере заслуживающей одобрение критики. Стихотворения г-на Шевченко ближе всего подходят к так называемым народным песнопениям: они так безыскусственны, что вы их легко примете за народные песни и легенды малороссиян; это одно уже много говорит в их пользу... А при всем том его стихи оригинальны: это лепет сильной, но поэтической души...»

Женская головка. 1830 г. Рисунок Т.Г. Шевченко.
Первые произведения Шевченко привлекли Белинского своей народностью, художественной самобытностью. Теплыми лирическими красками рисовал поэт облик женщины, девушки из народа: таковы героини «Порченой» и «Катерины», «Утопленницы» и «Тополя», поэмы на русском языке «Слепая»; они страстно ищут «доли», счастья, но гибнут в столкновении с враждебными силами. С первых же шагов в литературе поэт, ставший подлинно народным Кобзарем, правдиво раскрывший всю бездну горя и страданий трудящихся масс, воспевает мужество борьбы, героический подвиг во имя народа. Шевченко создает образы отважных защитников родины, смелых народных вожаков (исторические баллады и поэмы «Иван Подкова», «Тарасова ночь», «Гамалия»). Борьба украинских казаков с турецкими, польскими захватчиками встает под пером поэта в подчеркнуто романтическом освещении:
Уж не три дня, не три ночи
Бьется наш Трясило;
От Лимана до Трубайла
Поле кровь покрыла...
На ту пору казаченек Тарас созывает:
- Атаманы-товаарищи,
Братья мои, дети!..
Народно-героической теме посвящена и ранняя поэма «Гайдамаки», напечатанная в конце 1841 года отдельной книгой. Однако романтические герои «Гайдамаков» - батрак Ярема Галайда, гайдамацкие вожаки Максим Зализняк и Иван Гонта - это не «сильные личности», оторванные от масс, а подлинные народные мстители. Поэт изображает народ, рисует картины освободительного восстания (главы «Третьи петухи», «Кровавый пир», «Пир в Лысянке»). Недаром многие отрывки из поэмы стали народными песнями:
Летит орел, летит сизый
Да под небесами.
Зализняк гуляет батько
Степями, лесами.
Ой, летает сизокрылый,
А за ним орлята.
Ой, гуляет славный батько,
А за ним - ребята...
Нет ни хутора, ни хаты,
Ни стола, ни лавок.
Степь да море - на просторе
Богатство и слава!
Здесь, как и в лирических стихах Шевченко, сказалось влияние народно-поэтического творчества, богатейшего украинского песенного фольклора. Вместе с тем уже Белинский отметил самобытность и оригинальность поэзии Шевченко. Во многих поэмах Шевченко появляется образ поэта-борца, народного Кобзаря, воспевающего горе народа и призывающего на борьбу с деспотизмом. Почетная и важная роль отведена старцу кобзарю, например в поэме «Гайдамаки». Таким Кобзарем, вдохновляющим народ на борьбу за свои права, свое счастье, был и сам Шевченко. Новая украинская литература сложилась позже, чем литература русская, позже выработался и украинский литературный язык. Еще великий украинский философ и поэт Григорий Сковорода в конце XVIII века создавал свои песни, басни и диалоги не на украинском народном языке, а на искусственной смеси языков русского и церковнославянского, лишь с отдельными украинскими словами и оборотами:
От когда бы же мне в дурни не пошитись,
Дабы вольности не мог как лишитись,
Будь славен вовек, о муже избрание,
Вольности отче, герою Богдане!
Первое классическое произведение художественной литературы на народном украинском языке - знаменитая сатирическая поэма Ивана Петровича Котляревского «Энеида, на малороссийский язык перелицованная» (первые части ее изданы в 1798 году). Выдающийся поэт и драматург, связанный в молодости с декабристским движением, Котляревский оставил далеко позади русские пародийные поэмы Осипова, Василия Майкова. В своей «Энеиде» он рисует живые картины народного быта, разоблачает жестокость помещиков. На Украине каждому школьнику известна сцена в аду из этой поэмы:
Панiв за те там мордували
I жарили зо вcix бокiв,
Що людям льготи не давали
I ставили ix за скoтiв...
Доныне не сходят со сцены и пьесы Котляревско-го «Наталка-Полтавка», «Солдат-чародей». Бедная крестьянская девушка Наталка, ее мать Терпилиха (Терпеливая) были первыми в украинской литературе реальными человеческими характерами. Реалистические и демократические тенденции творчества Котляревского высоко ценил Шевченко; в одном из первых своих стихотворений, «На вечную память Котляревскому», он говорил:
Не умрет кобзарь - навеки
Эта слава встала.
Будешь долго ты в почете,
Пока живы люди;
Пока солнце с неба светит,
Тебя не забудут.
В двадцатых и тридцатых годах XIX столетия появились написанные на народном украинском языке басни Петра Гулака-Артемовского («Пан и собака», «Рыбак»), Евгения Гребенки («Малороссийские присказки». Тем не менее украинские поэты до Шевченко лишь в незначительной степени отражали все многообразие социальной действительности; они не поднимались до широких реалистических обобщений и художественной типизации. Это же относится и к тогдашней прозе и к драматургии. Уже после появления первых повестей Гоголя, в тридцатых годах, выступил талантливый украинский прозаик Григорий Федорович Квитка (под псевдонимом Грицько Основьяненко). Но и он не был свободен от сентиментальной идеализации действительности, и впоследствии Чернышевский, Иван Франко справедливо отмечали идейно-художественную ограниченность его творчества. «Квитка так же, как и Гулак-Артемовский, - писал Франко, - стоял на той идейной основе, что барщина - состояние вполне оправданное, при котором возможна счастливая жизнь крестьянина, если только он имеет доброго пана...» Украинская литература первых десятилетий XIX века не достигла уровня, на котором стояла русская литература того времени - в творчестве Пушкина и Рылеева, Лермонтова и Крылова, Гоголя и Грибоедова. Основоположником новой украинской литературы, литературы критического реализма, стал Шевченко. Он же окончательно утвердил украинский литературный язык, основанный на живом, общенародном языке украинцев. Предшественники Шевченко подготовили своей деятельностью его появление в литературе. Консервативные круги встретили поэзию Шевченко в штыки. Николай Маркевич записал в своем «Дневнике» 23 апреля 1840 года:
«Кукольник критиковал Шевченко, уверял, что направление его «Кобзаря» вредно и опасно».
Даже некоторые близкие друзья Шевченко боялись, что поэзия помешает его работе художника. Сошенко рассказывает:
Не раз принимался я уговаривать Тараса, чтобы он серьезно принялся за живопись: «Эй, Тарасе, одумайся! Чего ты дела не делаешь! Чего тебя нечистый по гостям носит? Имеешь такую протекцию, такого учителя!..» Куда тебе - и слышать не хочет!..
Правда, по временам мой товарищ и дома сидел, да все-таки настоящим делом не занимался: то поет песни, то пишет себе что-то, да все ко мне пристает:
«А ну-ка, послушай, Соха, хорошо ли оно так будет?»- да и начинает читать мне свои стихи.
«Да отцепись, - говорю, - ты со своими никчемными виршами! Почему ты настоящего дела не делаешь?»
Позже приятели упрекали Сошенко:
Не грешно ли было вам, Иван Максимович, преследовать Шевченко за поэзию? Вам следовало бы поощрять его занятия, а не браниться!
А кто ж его знал, - оправдывался обыкновенно Сошенко, - что из него получится такой великий поэт? И все-таки я стою на своем: если бы он кинул тогда свои вирши, так был бы еще более великим живописцем...
Однако Шевченко и не думал бросать живописи. В том же году, когда появился «Кобзарь», он снова был награжден советом академии серебряной медалью «за первый опыт его в живописи масляными красками - картину «Нищий мальчик, дающий хлеб собаке»; сверх того, положено объявить ему похвалу». Очередную награду получил Тарас и в следующем году - за картину «Цыганка-гадалка». Тогда же он начал работать над картинами маслом «Катерина» и «Крестьянская семья» и над книжной иллюстрацией. Рисунки Шевченко встречаем в сборнике «Сто русских литераторов» (к рассказу Н. Надеждина «Сила воли»), в непериодическом прогрессивном издании Александра Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими» (к рассказу Квитки-Основьяненко «Знахарь»), в книгах Николая Полевого «Русские полководцы» и «История Суворова». Об издании Башуцкого Белинский писал:
«Рисунки г.г. Тимма, Щедровского и Шевченко отличаются типическою оригинальностью и верностью действительности... «Наши», как свидетельство наших успехов в деле вкуса и искусства, должны радовать всякое русское сердце».
Близкая дружба Шевченко с Василием Штернбергом началась в сентябре 1838 года, когда они поселились на общей квартире. Штернберг приехал с Украины, где провел лето вместе с Глинкой, певцом Гулаком-Артемовским, Николаем Маркевичем, Виктором Забилой. Через Штернберга Тарас сблизился со студентами Петербургского университета и Медико-хирургической академии. Вместе с ними посещал музыкальные вечера, которые устраивал в университете инспектор Фицтум. Александр Иванович Фицтум был очень оригинальной фигурой. Скромный университетский инспектор и любитель-музыкант, он пользовался особым доверием передового студенчества. По рекомендации Фицтума Шевченко после отъезда Штернберга летом 1840 года за границу поселился вместе со студентом-историком Леонардом Демским. Леонард Демский, совершенный бедняк, был прекрасно образованным человеком и пламенным демократом. Он владел многими древними и новыми языками, читал вместе с Шевченко польскую и французскую революционную литературу и успешно обучал Тараса французскому языку. Демекий, мечтавший «превзойти Лелевеля», был смертельно болен и вскоре на руках у Шевченко скончался от чахотки. Смерть эта тяжело поразила Тараса. «Так спокойно умирают только праведники, а Демский принадлежал сонму праведников», - писал он. Оставшаяся после смерти товарища небольшая библиотека исторической и политической литературы перешла к Шевченко, и он еще долго штудировал подобранные другом книги. Шевченко мечтал вырваться хоть ненадолго из душной николаевской тюрьмы, вздохнуть воздухом хотя бы относительной «свободы». Он мог скорее всего рассчитывать на заграничную поездку в Италию, предоставлявшуюся Академией художеств для «усовершенствования в искусстве». Так отправились в заграничное путешествие Штернберг с Айвазовским. На палубе парохода «Геркулес» в Кронштадте друзья распили бутылку шампанского, и молодые счастливцы отбыли в Италию, в Рим. Это было в июле 1840 года. А спустя два года Штернберг писал Тарасу из Рима: «Дай бог тебе успех, чтобы скорее быть к нам. Василий Иванович (Григорович) тебе поможет. Идем провожать его». В начале 1843 года Шевченко сообщал украинскому писателю Я.Г. Кухаренко: «Я в марте месяце еду за границу». Однако свое намерение он так и не осуществил. Зато весной, как только окончились занятия в академии, Шевченко решил поехать на Украину, в родные места.
Иллюстрации к «Виршам» Т.Г. Шевченко 1844 года.
История создания и работа над рукописью
Я в жизни сей не раб презренный:
Я проводник того огня,
Который движет всей вселенной,
И с неба льется на меня!
А. Вельтман
Думи мoi, думи моi,
Лихо менi з вами!
Т. Шевченко

Т.Г. Шевченко. автопортрет. 1843.
Обрашаясь к архивным материалам (отдел рукописей Киевского государственного института литературы имени Т.Г. Шевченко АН Украины), где по сей день находятся рисунки Башилова и де Бальмена к «Виршам», очень важно понять значение иллюстраций, как для творчества самих художников, так и для развития собственно иллюстративного искусства 1840-х годов. Можно только удивляться, почему до сих пор не были изданы «Вирши» Шевченко и почему данная работа не введена в научный и художественный круг. Нельзя сказать, что исследователей совсем не интересовало это рукописное издание. Так или иначе, его касались многие литературоведы, а точнее, шевченковеды.

Я.П. Бальмен. Инициал "О" к поэме "Гамалия".
Все статьи в основном написаны на украинском языке, за исключением одной. Особенность этих статей в том, что в них главное внимание уделяется творчеству и значению писателя Шевченко. Иллюстрации художников, если и рассматриваются, то лишь фрагментарно, как часть их биографии, связанной с творчеством талантливого украинского поэта или дается интересный экскурс в историю создания рукописи. Все это, безусловно, важно, но совершенно не раскрывает значение самих иллюстраций и роли художников в интерпретации поэзии Т.Г. Шевченко. По сути, несмотря на достаточную известность рисунков в определенных литературоведческих кругах, данный изобразительный материал впервые в этой книге вводится в научный обиход. Обращение Башилова к творчеству Шевченко не случайно. Наверняка ему была знакома книжка стихов поэта «Кобзарь» (1840). Кроме того, в альманахе «Молодик» за 1843 год были напечатаны стихи Шевченко «Думка», «Н. Маркевичу», баллада «Утоплена». В этом же альманахе сотрудничал и Башилов. К моменту начала работы над иллюстрациями Башилов был уже подготовлен профессионально, имея за спиной опыт работы в оформлении литературно-художественных альманахов («Молодик», «Утренняя звезда») и книг, печатавшихся в университетской типографии. Возможно, идея создать рисунки к поэзии Шевченко посетила двух братьев Михаила Башилова и Якова де Бальмена в имении де Бальменов в Линовицах.

"Вирши". Т.Г. Шевченко. 1844.
Во всяком случае, идея эта воплотилась, и рукопись с иллюстрациями была завершена в 1844 году в Одессе (здесь же после окончания Харьковского университета работал Башилов), о чем де Бальмен сообщает в письме своему другу Виктору Закревскому: «Посылаю тебе, дорогой Виктор, плоды наших трудов: моих и Михаила Башилова. Все главные творения Тараса с виньетками. Они написаны латинскими буквами, чтобы увидели поэзию Тараса за границей и чтобы все могли читать, а в первую очередь - поляки. Это не подарок тебе, а посылается только для сохранения на случай приезда самого Тараса, которому этот труд посвящен, и делать с ним он может, что ему заблагорассудится.

Шмуцтитул к "Кобзарю". 1840.
Сохрани же его в надлежащей бережности. Я именно тебя выбираю как человека, чувствующего и понимающего смысл многих виньеток и без пояснения. Полагаюсь на тебя, как на каменную гору».

Я.П. Бальмен. Сражение казаков с ляхами. 1844.
Очень странно, что среди шевченковедов существуют разночтения о написании текста стихов в рукописи. Он написан на украинском языке латинскими буквами. На латинское написание указывает в письме сам де Бальмен. Становится ясно и другое: авторы иллюстраций планировали издать книгу за границей, скорее всего в Польше, «чтобы все могли читать». Яков Петрович де Бальмен (1813-1845) первоначальное образование получил в родовом имении, селе Линовицах Пирятинекого уезда Полтавской губернии, а затем в Нежинской гимназии высших наук, где до того учились Н.В. Гоголь и Н.В. Кукольник. После гимназии он поступил в Белгородский уланский полк, оттуда был переведен в чине штаб-ротмистра адъютантом к генералу Лидерсу на Кавказ, где погиб. По некоторым сведениям Яков Петрович непродолжительное время учился у К.И. Рабуса, который был не только живописцем, но и отличным рисовальщиком. Бальмен освоил общие понятия перспективно-пространственного построения, которые позже успешно использовал в своих интерьерах и других композициях (Корнилова А.В. Мир альбомного рисунка. Русская альбомная графика конца XVIII - первой половины XIX века. Л.. 1990. с. 180, 182, 188). Письмо Я. де Бальмена было найдено жандармами при обыске и аресте Закревского в 1848 году. На допросе в III Отделении он отвечал, что видел книжку Шевченко 1845 года. Сама рукопись с иллюстрациями была изъята III Отделением в 1847 году при аресте историка Н.И. Костомарова по делу Кирилло-Мефодиевского братства. В делах III Отделения она находилась до 1917 года, затем снова исчезла и появилась только в 1924 году.

Я.П. Бальмен. Провинциальный маскарад. 1840.
До Костомарова книга побывала у помощника куратора Киевского учебного округа М. Юзефовича. Об этом обмолвился на допросе Костомаров. Отвечая на вопрос: «Кто переписывал и иллюстрировал названную книжку?», он сказал: «Иллюстрирована и переписана книга была де Бальменом, которого я совсем не знаю. Эта книжка была у Юзефовича». О том, получил ли «подарок» сам Шевченко, можно с уверенностью ответить утвердительно. Во время поездки в 1845 году в Малороссию среди других мест Шевченко посетил и Березовую Рудку, где жил Закревский. Но самое главное - на страницах рукописи рукой Шевченко сделаны исправления и пометки. На последних чистых страницах в конце рукописи поэтом написаны две начальные строки из будущей поэмы «Кавказ» (1845), посвященной памяти Якова де Бальмена, погибшего на Кавказе в том же 1845 году, а также стихотворение «За что мы любим Богдана» (1845). С одной стороны, кажется странным, почему книга переходила из рук в руки до ее ареста в 1847 году, а не была издана сразу же после того, как с ней ознакомился Шевченко.

Я.П. Бальмен. Заставка к главе "Титар". 1844.
Вопрос проясняется, когда узнаешь, что поэт готовил новое издание «Кобзаря» и в 1847 году написал к нему предисловие. Вероятней всего, новое издание должно было выйти с иллюстрациями Башилова и де Бальмена, поэтому книга находилась у Костомарова, который занимался изданием книг по роду деятельности Кирилло-Мефодиевского братства и, очевидно, собирался издавать новый сборник стихов Шевченко. Именно он писал поэту в 1847 году и просил его прислать новые стихи, желая включить их в сборник, проиллюстрированный художниками. Конечно, это лишь наши предположения, но вполне обоснованные, имеющие право па реальную жизнь. Интересно и то, как составлен сборник.

Я.П. Бальмен. Два гайдамака на фоне церкви. 1844.
После каждого стихотворения или поэмы идут чистые пронумерованные страницы, а в конце книги - их более двадцати. Это также подтверждает нашу мысль о том, что авторы рисунков рассчитывали на дополнения сборника новыми стихами поэта. В него вошли уже опубликованные ранее сочинения Шевченко: «Кобзарь» (1840), состоящий из восьми стихотворений, поэмы «Гайдамаки» (1841) и «Гамалия» (1844). Первый раздел («Кобзарь») иллюстрировал Башилов, второй и третий («Гайдамаки» и «Гамалия») - де Бальмен. Первый письменный отклик на рукопись составлен жандармами.

Я.П. Бальмен. Сбор гайдамаков в дубраве. 1844.
В описи документов, изъятых у Костомарова во время обыска читаем: «Стихи художника Шевченко в двух книгах, написанные по-украински (у Костомарова был обнаружен также изданный в 1840 году “Кобзарь”. Одна из них рукописна, превосходно иллюстрирована, а другая – напечатана).

Я.П. Бальмен. Конфедераты. Концовка. 1844.
Стихи, вошедшие в рукопись, кроме одного, те же самые, что вошли в другое издание, разрешенное цензурой». В III Отделении рукопись находилась до 1917 года. Затем после разгрома департамента она оказалась в частных руках, а после объявилась в Казани у одного из профессоров университета.

Идущий с поля Иван. 1844.
Тогда же российский пленный австрийский старшина А. Ванчура сделал 75 снимков с иллюстраций и осенью 1918 года отправил негативы с них во Львов Товариществу им. Тараса Шевченко. В настоящее время рукопись находится в Институте литературы им. Т.Г. Шевченко АН Украины". Уже внешний вид - большой формат (34,3х21,2 см), переплет из прекрасной темно-вишневого цвета кожи с золотым тиснением, изящные металлические застежки - свидетельствует о монументальности и праздничности оформления рукописной книги. Издание, несмотря на то что выполнено двумя авторами, отличается большой продуманностью композиционного и пластического решения иллюстраций, определенным стилистическим единством художественных элементов, украшающих книгу. Все стихотворения и отдельные главы начинаются с новой правой страницы разворота, независимо от того, где закончилась предыдущая часть текста. Каждое произведение и каждая глава имеют заставку, инициал и концовку.

Вооруженные запорожцы. 1844.
Заглавия вынесены на отдельные листы. Каждым из художников сделано примерно равное количество иллюстраций. Де Бальмен выполнил рисунки к поэмам «Гайдамаки» и «Гамалия» (42 изображения), они имеют подпись «J. Balmain». Башилов иллюстрировал стихотворения: «Думы мои, думы мои», «Перебендя», «Тополя», «Думка (На что черные мне брови)», «К Основьяненко», «Иван Подкова», «Тарасова ночь» и поэму «Катерина» (39 рисунков). Кроме того, Башиловым выполнены титульный лист ко всей книге и шмуцтитул к «Кобзарю», рисунки подписаны - «М. Bachiloff» или обозначены монограммой «МВ». Рисунки и текст рукописи сделаны пером и тушью. Использование виньеток выглядит достаточно традиционным для русской и европейской книги того времени.

Заставка к букве "N" к стихотворению "Думка". 1844.
Башилов и де Бальмен не столь часто, как в книге начала позапрошлого века, по все же употребляют в концовках и названиях произведений виньетки-украшения: лавровые венки, раскрытые книги и оружие (чаще всего казацкое). Трактовка формы и композиция отдельных рисунков соответствуют принятым в академическом искусстве классицистическим канонам: например, в концовке к главе «Конфедераты» группа конфедератов, ведущих за собой Лейбу, образует форму пирамиды; арочно-пирамидальная форма - в заставках к «Гупаливщине» или в фигурах сидящих Оксаны и Яремы к «Лебедяни (Гайдамаки)». На заставке к «Думке» (одновременно она является и инициалом, точнее, инициал плавно переходит в заставку) тело лежащей на ветвях девушки напоминает фигуру и позу античных богинь и т.д. Стиль конца XVIII - начала XIX столетия ощутим и в оформлении титульного листа рукописи, выполненного Башиловым, - ветки орнамента образуют барочный мотив рамки, по углам которой расположились фигуры казаков (внизу), бандуриста и девушки-русалки (вверху), -а также в аллегоричности решения некоторых сюжетов: два целующихся голубя в инициале строки «Чернобровые, любитесь» или летящий ангел в концовке к «Перебенде».

Инициал "С" к стихотворению "Иван Подкова". 1844.
В романтическо-сказочном стиле решена заставка ко второй главе стихотворения «Иван Подкова», изображающая бурное волнение моря и Посейдона, поднимающего на волнах корабли. Один из рисунков художника вполне соответствует тексту стихотворения:
Чорна хмара з-за Лиману
Небо, сонце крие,
Сине море звiрюкою
То стогне, то вие,
Днiпра гирло затопило.

Я.П. Бальмен. Спящая девушка. 1844.
Проявление некоторых черт классицизма и романтизма в иллюстрациях обоих художников вполне закономерно: они были воспитаны на образцах этого искусства. Кроме того, сама поэзия Шевченко характерна «сочетанием романтики и реального жанра, стилизации и натурализма, сложившегося в очень определенную индивидуальную манеру». Однако главное в работе Башилова и де Бальмена проявляется не в этом. Выбор тем и трактовка формы большинства рисунков свидетельствуют о реалистических тенденциях художников. Напомним, что еще не были выполнены иллюстрации Г.Г. Гагарина к «Тарантасу» В.А. Соллогуба (1845) и А.А. Агина к «Мертвым душам» Гоголя (1846), не были созданы лучшие сепии (1844-1845) и картины. Федотова («Свежий кавалер», 1846; «Разборчивая невеста», 1847; «Сватовство майора», 1848), положившие начало важнейшему принципу всей реалистической графики 40-х годов - непосредственному жизненному наблюдению, отображению окружающей действительности, критическому отношению к ней.

Морской пейзаж. 1844.
Кстати, иллюстрации Гагарина наиболее близки по своему стилю рисункам Башилова и де Бальмена: в них также используются виньетки и инициалы, заставки и концовки. Кроме того, реалистические принципы иллюстрирования сочетаются с отдельными элементами формы, присущими романтизму и классицизму. У Башилова и де Бальмена не было предшественников, если не считать иллюстрацию на фронтисписе первого издания «Кобзаря» В.И. Штернберга, изображающей конкретную жанровую сценку из малороссийской действительности. Этот рисунок, так же как и поэзия самого Шевченко, был встречен с большой симпатией критиками. Белинский, например, писал: «при книжке приложена картинка, сделанная Штернбергом - великим мастером изображать малороссийские народные сцены».

Посейдон подымает корабли. 1844.
Башилов и де Бальмен, иллюстрируя произведения Шевченко, обратились к новым в русской графике сюжетам, воссоздающим жизнь украинского народа. Необходимо заметить, что оба художника, родившиеся и жившие на Украине, прекрасно знали и любили ее природу, историю и людей.

Я.П. Бальмен. Инициал "Н" к главе "Свято в Чигирини"
Эта любовь к Малороссии пронизывает и всю поэзию Шевченко. И, как уже отмечалось, она характерна для многих мастеров изобразительного искусства, обращавшихся к этой теме. Любовью к Малороссии и общностью взглядов объясняется понимание художниками духа поэзии Шевченко, новизны ее идейно-тематического содержания. Новаторство Башилова и де Бальмена очевиднее при сопоставлении их работы с иллюстрациями в изданиях предыдущего десятилетия. «В пластических виньетках, отливавшихся в виде политипажей и многократно применявшихся в различных изданиях, - пишет об оформлении книги в России первой четверти XIX века Ю.Я. Герчук, - без конца варьировались освященные давней традицией символы - лиры и лавровые венки, античное оружие и урны, купидоны и Славы. Подобным же языком облеченных в античные одеяния аллегорических фигур и их атрибутов говорила и книжная гравюра на меди - фронтисписы, иллюстрации, титульные листы».

Я.П. Бальмен. Концовка к главе "Титар". 1844.
Замена античных «богов» с их атрибутами (хотя некоторые символы все же остаются) конкретными персонажами реальной окружающей жизни обусловлена не только проявлением в книжной графике общих черт развития изобразительного искусства, но и тесной связью с литературными произведениями, к которым были созданы рисунки, и глубоким пониманием художниками творчества поэта. Новая литература, написанная живым народным языком, требовала и новой изобразительной системы, чуждой набору эмблем из «иконологических лексиконов».

Я.П. Бальмен. Заставка. 1844.
Очень важным для иллюстраторов, обратившихся к поэзии Шевченко, была близость эстетических взглядов, демократизм убеждений, которые роднили поэта и художников. Башилов и Шевченко публиковались в одном журнале («Молодик», 1843-1844). Де Бальмен и Шевченко были близко знакомы и входили в Кирилло-Мефодиевское братство. Все эти факты, свидетельствуя о важности личных контактов для удачного творческого решения темы в рамках двух искусств - изобразительного и литературы, играют значительную роль в понимании художниками литературного произведения, в данном случае - поэзии. Проблема идейно-тематического единства текста и его изобразительного ряда оказалась в центре внимания создателей рукописного «Кобзаря».

Изгнание Катерины из отчего дома. 1844.
Основное сюжетное действие одного из наиболее крупных стихотворений сборника - «Катерина» - передано в пяти (по числу глав) заставках:
1. Встреча с офицером-москалём в саду;
2. Изгнание Катерины из отчего дома;
3. Встреча с чумаками по дороге на Московщину;
4. Встреча с офицером-соблазнителем;
5. Кобзарь и мальчик-поводырь на пути в Киев.

Встреча Катерины с чумаками. 1844.
Башилов поставил перед собой две тесно связанные одна с другой задачи: по возможности раскрыть содержание творения и найти предметно-пластический и психологический способ изобразительного решения как всей поэмы в целом, так и создания законченного художественного образа в каждом рисунке. Он выбирает те сцены, те события, в которых непосредственно и наглядно раскрываются характеры действующих лиц, особенно главной героини. Тема судьбы девушки-крестьянки, обесчещенной господином, отражена в серии рисунков настолько полно, что по ним одним можно судить о развертывании действия. Характерно, что многие последующие интерпретаторы «Катерины» дореволюционных лет, незнакомые с работой Башилова (М. Микешин, Н. Каразин, Б. Смирнов и др.), обращались к тем же сценам, стремясь точно повторить развитие литературного сюжета.

Встреча Катерины с офицером-соблазнителем. 1844.
Такой подход к раскрытию темы поэмы характерен для художников второй половины XIX века. Он отличается от решений иллюстраторов последующего времени, акцентирующих свое внимание на отдельных эпизодах текста. Развитие сюжета отражается не только в последовательной смене сцен, показанных Башиловым и де Бальменом, но и в композиции каждого отдельного рисунка, представляющего собой изобразительный рассказ о происходящем.

Я.П. Бальмен. Казаки в турецкой тюрьме. 1844.
В иллюстрациях сборника предстают сцена гадания (заставка к «Тополю»), эпизод казацкой битвы (заставка к «Тарасовой ночи»), картина турецкой неволи (заставка к «Гамалии»). Жанровый характер многих рисунков рукописного «Кобзаря» - качество, роднящее их с фронтисписом Штернберга.

Встреча Катерины с офицером москалем в саду. 1844.
Так, заключительная заставка к «Катерине» (Кобзарь и мальчик-поводырь на пути в Киев) в интерпретации Башилова представляет собой подробное графическое повествование: пустынная дорога, одиноко стоящая возле неё ель. виднеющаяся вдали лавра и два путника в старой, потрепанной одежде, идущие по этой дороге. Художника интересовало не только соответствие с текстом, по и жизненное правдоподобие сцены. Склонность к рассказу свойственна также концовкам и, что особенно интересно, инициалам. Инициал буквы «К» к IV главе поэмы «Катерина» представляет собой сучок ветки куста, под которым отдыхает героиня со своим ребенком. Заглавная буква в строке «Iszow Kobzar do Kyiewa» образует столб, под которым сидят кобзарь и его маленький поводырь («Катерина», V глава).

Гадалка и чернобровая казачка. 1844.

Инициал "Р" к стихотворению "Тополя". 1844.

Кобзарь и мальчик на пути в Киев. 1844.

Инициал "R" к IV главе поэмы "Катерина". 1844.

Я.П. Бальмен. Инициал "U" к главе "Титар". 1844.
Две палочки буквы «U» нарисованы как стволы деревьев, между которыми стоят, обнявшись, казак и девушка («Титар», «Гайдамаки»), Буква «Н» («Hetmany, Hetmany jak by to wy wstaly» -«Свято в Чигирини», поэма «Гайдамаки») выглядит как две монументальные колонны с перекладиной в форме арки, под которой проезжает вооруженное казацкое войско. Существенный признак, объединяющий и выражающий, единство тематического соответствия литературного текста и его графической интерпретации, - их общественная значимость. Изображая «униженных и обездоленных», художники стремились правдиво передать не только реальную действительность, но и (что очень важно) выразить свое сочувствие к простым людям. Эта черта особенно ярко проявляется в рисунках к «Катерине» Башилова и к «Гайдамакам» де Бальмена. К последней из названных поэм сделано наибольшее количество иллюстраций. Де Бальмен показал сцены народного восстания: казаки рубят головы шляхте (заставка к «Кровавому пиру»), стреляют в панов из ружей (концовка к «Гупаливщине»), вешают их на виселицах (инициал «Z» к строке «Zadzwonily w usi dzwony» - «Кровавый пир», «Гайдамаки»).

Я.П. Бальмен. Заставка к главе "Кровавый пир". 1844.
Тема расплаты с угнетателями, восстания поруганной личности за свои права, лишь намеченная Шевченко в его набросках к «Слепой» (1845), впервые нашла свое воплощение в рисунках де Бальмена и Башилова, что было новым явлением для русской книжной графики. Основные моменты развития фабулы в поэмах и стихотворениях сборника связаны между собой лирическими отступлениями поэта.

Я.П. Бальмен. Инициал "Z" к главе "Кровавый пир". 1844.
Борьба чувств, динамика переживаний составляет органическую часть сюжетного действия. Башилов и де Бальмен передают авторское присутствие введением в композиции рисунков изображения самого поэта. Портретное изображение Шевченко встречается в сборнике трижды: на шмуцтитуле «Кобзаря», в первой заставке к «Гайдамакам» и в концовке к «Тарасовой ночи» (во многих изданиях эту иллюстрацию, где Шевченко показан среди группы восставших казаков, ошибочно относят к «Гайдамакам»). Примечательно, что художники нарисовали профиль поэта, на первый взгляд, несвойственный его иконографии. Однако профильное изображение встречается в рисунках Штернберга и набросках самого поэта, хотя мало вероятно, что Башилов мог видеть их, так же, как и известный автопортрет Шевченко (1840), исполненный маслом, который находился в Петербурге.

Кобзарь среди восставших запорожцев. 1844.

Инициал "К". 1844.
Наибольшим портретным сходством обладают рисунки Башилова, что позволяет некоторым исследователям сделать справедливый вывод о знакомстве Башилова и Шевченко: «Башилов видел Шевченко и нарисовал его портрет с натуры». Предполагается, что они встречались в имении Я. де Бальмена в Линовинах. Кстати, там же Башилов познакомился с Жемчужниковым. Сам Шевченко отрицал свое знакомство с Башиловым, но это вполне объяснимо, так как речь о знакомстве возникла на допросе поэта и III Отделении. На вопрос: «Кто иллюстрировал рукописную книг) ваших сочинений и не принадлежит ли тот. кто столько занимался вашими стихотворениями, к злоумышленным славянистам?» Шевченко ответил: «Иллюстрировал мои сочинения граф Яков де Бальмен, служивший адъютантом у одного из корпусных генералов, убитый на Кавказе в 1845 году, и некто Башилов. С первым я виделся один раз (что не соответствует действительности), а второго совсем не знаю».

В.И. Штернберг. Шевченко и Штернберг. 1839.

В.И. Штернберг. Шевченко. Начало 1840-х.
То, что поэт дал отрицательный ответ, объясняется тем, что он хотел оградить Башилова от неприятностей. Напомним ещё раз, что Костомаров (у него нашли рукопись) вообще не назвал имя Башилова, а сослался только на погибшего де Бальмена. Как бы там ни было, выбрав для иллюстраций «Кобзаря» портретное изображение Шевченко, Башилов и де Бальмен тем самым подчеркнули взаимосвязь авторского присутствия в тексте и изобразительного комментария к нему.

Идущая по полю босая Катерина. 1844.
Введение в иллюстрацию портретов знакомых, писателей, художников, автопортретов станет в те годы довольно распространенным приемом. Можно сказать, что это была, в какой-то степени, дань модным тогда литературным играм, розыгрышам и мистификациям, которые из литературы со временем проникли в иллюстрацию. У Агина, например, появляется образ Федотова как тип капитана Копейкина, автопортрет самого художника в иллюстрации, где Копейкин звонит в колокольчик и т. д.

Я.П. Бальмен. Хозяин-еврей и батрак Ярема. 1844.
В передаче сюжетных сцен художники использовали лаконичный запас художественных средств. У Башилова и де Бальмена нет так подробно выписанных одежды, деталей быта, как позже у К. Трутовского или А. Сластиона. Например, в заставке ко второй главе «Катерины», изображающей смет изгнания героини из отцовского дома, вею обстановку хаты составляют стол, лавка и обвитая цветами икона. Почти так же скупо показано и внутреннее убранство избы, где батрачил Ярема (заставка к главе «Галайда» «Гайдамаков»), Лишь намечен пейзаж - голое дерево, крест на обочине - на иллюстрации, представляю-щей героиню на пути в Москву (заставка к III главе «Катерины»), или в рисунке, на котором слепой кобзарь-бандурист просит милостыню (заставка к стихотворению «Перебендя»),

Инициал "К" к поэме "Катерина". 1844.
Иногда художники ограничиваются и просто нейтральным фоном, максимально приблизив к зрителю изображение. Именно так решен один из удачнейших рисунков Башилова к поэме «Катерина».

Я.П. Бальмен. Автопортрет. Фрагмент. 1830-е.
Образ босой, закутавшейся в свитку и прижимающей к себе маленького сына героини, вынужденной в непогоду продолжать свой путь, необычайно выразителен и полон драматизма. Художник прекрасно передал косыми штрихами и заливкой тушью и холодный, пронизывающий ветер, и льющий дождь (концовка к III главе «Катерины»). Именно в этой первой серьезной работе над иллюстрированием литературного произведения складывается творческий метод Башилова-иллюстратора; выявление ярких кульминационных сцен в повествовании, последовательность развития сюжетного действия, лаконизм в использовании деталей, утолщение контурной линии, обводящей изображение.

Битва казаков с ляхами. 1844.
Но, кроме того, это и попытка выявить своеобразие творческой манеры писателя, его идейно-тематических установок. Очевидно, поэтому каждое иллюстрируемое художником произведение не повторяет предыдущее, а имеет свой особый почерк и стиль, соответствующий конкретному тексту.

Слепой кобзарь и мальчик-поводырь. 1844.
В «Кобзаре» Шевченко это проявляется в стремлении совместить реальность и романтическую приподнятость, свойственную поэзии. Безусловно, изобразительная манера художников отличается друг от друга. Рисунки Башилова более живописны, де Бальмена более линейны.

Я.П. Бальмен. За рисованием. 1838.
Башилов чаще прибегает к перекрестной штриховке, придающей большую пластическую выпуклость формам. Утолщенная линия контура и штрих до конца не сливаются друг с другом. Довольно часто (особенно в рисунках к «Катерине») он пользуется не только линией и штрихом, но и заливкой тушью, придающей особую живописность черно-белым иллюстрациям (заставка к I главе - «Встреча с офицером-москалем в саду»; концовка к III главе - «Идущая по полю в дождь и ветер босая Катерина е младенцем под свиткой»; заставка к IV главе - «Разговор с офицером-соблазнителем»; инициал к этой же главе и концовка-пейзаж). Контурные рисунки де Бальмена напоминают модную в начале века манеру, в которой Л.Ф. Мейдель иллюстрировал пушкинских «Цыган», а Ф.П. Толстой «Душеньку» И.Ф. Богдановича. В рисунках к «Гайдамакам» и «Гамалии» к контурной манере присоединяется легкая горизонтальная или вертикальная штриховка, которая объединяет перовые рисунки обоих художников. Пространство комнаты, пейзажа выстраивается с помощью правильной линейной перспективы.

Я.П. Бальмен. Верные друзья. 1836.
В зависимости от удаленности и протяженности пространства линия то набирает, то теряет свою силу: первый план выделен более сильным нажимом пера, второй и третий отмечены тонкой, волосяной линией. Именно так нарисованы интерьеры комнат в заставках к «Галайде», «Лебедяни» или «Конфедератам» («Гайдамаки»), В построении композиций де Бальмен, как правило, использует трехплановость, Башилов прибегает также к композициям двухплановым и одноплановым, решенным па нейтральном фоне. Но при всем различии творческих манер иллюстрации в книге смотрятся достаточно органично и цельно.

Инициал "В" к стихотворению "До Основьяненко". 1844.
Скорее всего, Башилов и де Бальмен совершенно сознательно приводили все рисунки к определенному единству. Это проявляется, прежде всего, в композиционном построении сюжетов в виде заставок, инициалов и концовок, в шрифтовых подписях и названиях стихотворений и поэм.

Я.П. Бальмен. Инициал "О" к главе "Конфедераты". 1844.
Возможно, именно поэтому, рисунки де Бальмена более проработаны штрихом, а иногда и заливкой тушью и так отличаются от других его работ. В основе всех прежних рисунков де Бальмена 1830-х-начала 40-х годов лежал контурный рисунок.

Я.П. Бальмен. Оксана и Ярема. 1844.
Манера линейного рисунка, распространенного в этот период, «без штриховки и растушевки, очевидно, нравилась и самому Бальмену, и зрителям, которым предназначались его альбомы». Все тексты и рисунки заключены в двойные рамки, лишь на титульном листе рамка закручивается по углам в витиеватые вензеля. Судя по всему, художники завершают работу вместе, в Одессе (вспомним, что здесь работает после университета Башилов и отсюда послано письмо де Бальмена и рукописная книга Закревскому). Весь текст рукописи и надписи на отдельных страницах, вероятнее всего, сделаны одним человеком и, думается, Башиловым. Об этом можно говорить почти утвердительно, если сравнить тексты переписанных стихов с почерком писем Башилова, обнаруженных в архиве РГАЛИ.

К.А. Трутовский. Иллюстрация к стихотворению
Т.Г. Шевченко "Наймичка". 1868.
Сам факт рукописного издания чрезвычайно интересен. Он давал художникам возможность свободно варьировать и сочетать текст и изображения, не зависеть от вкусов и желаний издателей и полиграфических возможностей того времени. Однако именно эти возможности учитывали братья, выполняя рисунки тушью и пером. Эта техника вполне могла быть воспроизведена в печати в ксилографии - технике, которая получала все большее распространение в 1840-е годы.

Играющий на бандуре слепой кобзарь. 1844.
Оформление рукописной книги (манускрипта) имеет давние исторические корни. Это, прежде всего, манускрипты церковного содержания с иллюстрациями на религиозную тему. В XIX столетии (особенно в первой его половине) - это чаще всего дневники, иллюстрированные авторами (вспомним дневники H.П. Ломтева) или же те сочинения, которые невозможно было издать.

Я.П. Бальмен. Заставка и инициал к главе "Лебедянь". 1844.
Фактически - это самиздат того времени. Именно гак распространялась комедия Грибоедова «Горе от ума», уже «в списках» ставшая известной читателям. Рукопись, созданная Башиловым и де Бальменом, несомненно, занимает особое место в издании поэзии Шевченко именно благодаря большому количеству иллюстраций, сопровождающих текст. В «списках» комедии Грибоедова также присутствовали иллюстрации, но они были единичными, располагались на титуле или обложке. Важный аспект проблемы единства слова и изображения - взаимодействие индивидуальных стилей автора литературного текста и его иллюстратора. Эта проблема встает в любом иллюстрированном литературном произведении, актуальна она и в данном конкретном случае.

Я.П. Бальмен. Шевченко среди своих героев. 1844.
Вопрос соответствия поэзии и изобразительного комментария к ней является довольно сложным, так как трудно сравнивать между собой такие разнородные понятия, как специальные речевые обороты, построение фраз, употребление тех или иных слов - с одной стороны, и технику нанесения штрихов и пятен, объемное или плоскостное решение композиции, цветность, предпочтение силуэта, определяющего характер поз, движений и жестов и пр. - с другой.

Кобзарь и мальчик-поводырь. 1844.
Важность этой проблемы, однако, не вызывает сомнений. О. Подобедова, например, считает «единство основной изобразительной единицы и для литературного произведения и для иллюстративной системы, когда природа слова будет диктовать художнику выбор именно данного штриха, пятна краски и т.п.» -одной из наивысших форм синтеза слова и изображения.

Я.П. Бальмен. Концовка к главе "Гонта в Умани". 1844.
Очевидно, именно поэтому работы художников дореволюционного времени, обращавшихся к творчеству Шевченко (Жемчужников, Трутовский, Сластион, Микешин), даже, если они выполнены в графической манере, живописны по своей природе. Живописность отличает и большинство иллюстраций Башилова и даже «графичного» де Бальмена. Однако найти полное «попадание» в слово, на наш взгляд, практически невозможно да, вероятно, и не нужно. Башилов и де Бальмен, например, игнорируют присущий Шевченко этнографизм, хотя он органически входит в ткань произведений поэта, выражаясь в описательных, чисто внешних картинах жизни украинского крестьянства: «идиллических сценок и описаний народных обычаев и обрядов, песен, танцев, музыки».

Я.П. Бальмен. Встреча гайдамаков с хлопцем. 1844.
С этнографической точностью обрисованы поэтом многие литературные образы - в частности, кобзаря в «Катерине», Ганны в «Наймичке» и другие. Эта черта шевченковского творчества обратила на себя внимание многих художников, стремящихся изобразительно передать содержание произведений «Кобзаря». В их сюжетно-повествовательных композициях бытовые и этнографические мотивы заняли ведущее место. Это касается, прежде всего, иллюстраций Трутовского к «Наймичке», выполненных несколько позже. Однако в работе над иллюстрациями к «Кобзарю» и Башилов, и де Бальмен оставляют в стороне этнографизм поэзии Шевченко. Содержание сюжетов они выражают через заострение моментов повествования, которые присутствуют в поэмах «Катерина», «Гайдамаки», «Гамалия» и многих других стихах. Конкретность, описательность многих сцен тесно связана с тем, что сам текст содержит почти зрительные картины. И если Трутовского в «Наймичке» интересует преимущественно возможность воссоздать подробности обычаев и нравов, наполненность поэмы бытовыми сценами и этнографическими описаниями, то де Бальмена и Башилова привлекает драматизм того или иного (1868). Этнографизм присущ, как уже отмечалось, и живописным работам Башилова, посвященным украинской теме и выполненным по мотивам шевченковской поэзии - «Слепой кобзарь-бандурист» (нач. 1850-х годов), «Батрачка (Наймичка, 1855)».

Я.П. Бальмен. Инициал "W" к поэме "Гайдамаки". 1844.
Однако в работе над иллюстрациями к «Кобзарю» и Башилов, и де Бальмен оставляют в стороне этнографизм поэзии Шевченко. Содержание сюжетов они выражают через заострение моментов повествования, которые присутствуют в поэмах «Катерина», «Гайдамаки», «Гамалия» и многих других стихах. Конкретность, описательность многих сцен тесно связана с тем, что сам текст содержит почти зрительные картины. И если Трутовского в «Наймичке» интересует преимущественно возможность воссоздать подробности обычаев и нравов, наполненность поэмы бытовыми сценами и этнографическими описаниями, то де Бальмена и Башилова привлекает драматизм того или иного эпизода, психологическая выразительность образов, сострадание к простому человеку.

Пейзаж с домиком. 1844.
Образ кобзаря проходит у иллюстраторов (как и у Шевченко) через всю первую часть «Виршей», соответствуя названию. Сам поэт является «кобзарем», и его портрет открывает книгу (шмуцтитул). Затем образ слепого кобзаря, сидящего на коленях и просящего милостыню, появляется на заставке к «Перебенде»; позже - в заставке, инициале и концовке последней V главы «Катерины; а также в концовке к «Тарасовой ночи» и заставке к поэме «Гайдамаки» - снова в облике поэта.

Декоративные корни с листьями.
Концовка ко Второй главе поэмы "Катерина". 1844.
Башилов и частично де Бальмен решали одну из важных художественно-образных задач, стоявших перед иллюстрацией второй половины XIX века, «раскладывая» одну тему па целый ряд последовательных во времени сцен и эпизодов. Это чрезвычайно важно, так как по этому пути шли и другие художники-иллюстраторы 40-х годов (Жуковский, Ковригин, Гагарин, Агин). В.Ф. Тимма, например, в начале 40-х годов («Сенсации и замечания госпожи Курдюковой» И.П. Мятлева, 1840-1843; «Наши, списанные с натуры русскими», 1841-1842; «Картинки русских нравов», 1842-1843; «Листок для светских людей», 1843) «сюжетная сторона рисунка интересует лишь в тех пределах, в каких она способствовала созданию живой и непосредственной характеристики образа».

Инициал "S"к поэме "Катерина". 1844.
Тимм избегает, в отличие от Башилова и де Бальмена, изображения событийных, развернуто-повествовательных сцен. В иллюстрационной графике первой половины 40-х годов (вплоть до Агина), особенно в рисунках Тимма, часто, сделанное мимоходом замечание автора, его обмолвка служили поводом для подобной же «обмолвки» иллюстратора, представлявшего зарисовку бытовой детали, живой набросок того или иного типа. Как замечает К.С. Кузьминский: «Литературная иллюстрация до середины 40-х годов была явлением редким и случайным». И тем не менее, изображение в 1840-е годы все чаше исполняет роль не просто «картинки», приложенной к тому или иному сюжету, оно принимает активное участие в раскрытии словесного художественного образа. По существу, само понятие «иллюстрация» получает право на жизнь и распространение именно в этот период. Характерно, что иллюстрацией в широком смысле слова называется в 40-с годы и литературный очерк, и фельетон, и статья о новом техническом изобретении. Не случайно под названием «Иллюстрация» в середине 40-х годов возникает периодическое издание именно такого универсального типа. Но тоща же, давая определение этому понятию, критик и публицист В.Н. Майков в «Карманном словаре иностранных слов» пишет, что это «издание книг с рисунками, поясняющими текст. Эти рисунки или изготавливаются особо на отдельных листах и прилагаются к сочинению, или печатаются в связи с текстом». Иллюстрации Башилова и де Бальмена основаны па важнейшем принципе всей реалистической книжной графики 1840-х годов - непосредственном жизненном наблюдении, отражении окружающей действительности. Именно по этому пути пошли многие ведущие художники-графики второй половины 40-х годов, в том числе Г. Гагарин в иллюстрациях к «Тарантасу» Соллогуба и А. Агин в рисунках к «Мертвым душам» Гоголя. Метод следования за текстом потому и возник, что он помогал художникам использовать познавательную способность литературы и тем самым содействовал решению задач, выдвинутых жизнью перед всей русской культурой. В своем годовом обзоре русской литературы за 1846 год, оценивая значение развивающейся «натуральной школы», Белинский писал: «Если бы нас спросили, в чем состоит отличительный характер современной русской литературы, мы ответили бы: в более и в более тесном сближении с жизнью, с действительностью, в большей и большей близости к зрелости и возмужалости». Это известное положение критика вполне может быть отнесено и к интересующей нас области изобразительного искусства. Под воздействием литературы книжная графика также все более сближалась с окружающей действительностью, обогащалась общественно-значимым содержанием, становилась все более доступной. По свидетельству того же Белинского, появляется множество иллюстрированных изданий, стремящихся «сочетать русское художество с русской литературой». В предисловии к сборнику «Физиология Петербурга» критик отмечает возросшую потребность в сочинениях, «которые бы в форме путешествий, поездок, очерков, рассказов, описаний знакомили бы с Россией и ее многочисленным населением», и поэтому он видит «самолюбие составителей книги», то есть писателей и художников, в том, чтобы высказать «меткую наблюдательность» и «более или менее верный взгляд на предмет, который взялись они изображать». Эти издания, по его словам, встретили отголосок в любви соотечественников к родному, в наклонности общей к чтению разнообразному и питательному». Работа по графическому истолкованию сочинений Шевченко требовала от Башилова и де Бальмена выражения своего отношения не только с художественных, но и общественных позиций. И эта задача ими была успешно решена. Художники показали не только знание материала, но и широту своих взглядов. Именно жизненный материал позволял дать братьям правдивые картины современной действительности. Их успех тем более значителен, что в данном случае и на данном временном отрезке Башилов и де Бальмен не имели никаких предшественников в деле иллюстрирования поэзии Шевченко, кроме уже упоминавшегося рисунка Штернберга. Художники весьма успешно справились с общей задачей, стоящей перед иллюстраторами любого литературного произведения -выразить суть поэзии и эпохи, смысл происходящего сюжетного действия, совпадающего в данном изобразительном материале с основной мыслью автора-поэта. Правда, эта работа не увидела свет и не могла оказать влияние на развитие новых форм в изобразительном искусстве, но она лишний раз подтверждала, что именно в этом направлении развивается иллюстрация и все демократическое искусство в целом. Таким образом, можно сделать некоторые общие выводы. Иллюстрационная графика 40-х годов Башилова, де Бальмена, Гагарина, Агина, Жуковского и других художников обогащается новыми, ранее неведомыми реалистическими завоеваниями. Появляется определенное художественное направление, опирающееся в своих работах на новые творческие принципы. Иллюстрируя произведения литературы, художники вслед за писателем обращают основное внимание на создание правдивых, лишенных всякой идеализации, зарисовок повседневной жизни. Складывается новый метод истолкования текста, основанный на обращении иллюстраторов к реальной действительности, на трезвом ее анализе. Испытывая плодотворное воздействие русской литературы этого времени, иллюстрация 40-х годов обогащалась новым жизненным содержанием, демократическим по своей тематике. Каждый из ведущих мастеров имел свой творческий облик, различными были подчас их политические убеждения, но все они (включая Башилова и де Бальмена) выступали единой созидательной силой, способствующей «сближению искусства с жизнью». Со второй половины 40-х годов рисунки становятся не только желательным сопровождением многочисленных иллюстрированных изданий (таких как «Физиология Петербурга», «Петербургский сборник», «Иллюстрация»), но и их необходимым дополнением в правдивом и неприкрашенном отображении социальных явлений жизни. Это осознается в полной мере и передовыми деятелями русской культуры тех лет. Художник оказывается активным помощником писателя, который средствами своего искусства может дополнить картины, представленные в литературном тексте. Некрасов очень точно определил это время: «Наша жизнь во всех ее фазах - неисчерпаемый источник для наблюдателя и живописца; чего один не подметит в живом слове, то другой доскажет карандашом, в верном образе». Автор статьи: Кольцова Л.А.